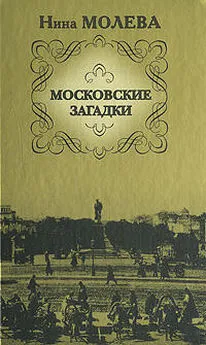Нина Молева - Тайны земли Московской
- Название:Тайны земли Московской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Агентство „КРПА Олимп“
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-7390-1969-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Молева - Тайны земли Московской краткое содержание
Древняя Русь, средневековая Россия. Дмитрий Донской, Елена Глинская, Иван Грозный, боярыня Морозова, первые Романовы — интересные новые факты повествуют о «потаенных хранилищах» истории и культуры России.
Автор книги — Нина Михайловна Молева, историк, искусствовед — хорошо известна широкому кругу читателей по многим прекрасным книгам, посвященным истории России.
Тайны земли Московской - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На задохнувшихся упрямым запахом прели, жестко покоробленных листах мешались следы Смутного времени и пришедших ему на смену столетий. Торопливые записи и плывущие пятна плесени, «скрепы»-подписи дьяков и выцветшие до дымчатой белизны чернила, телеграфной краткости деловой язык и затертые уголки листов — сколько рук перелистало их почти за четыре века! 1620 год, перепись московских дворов…
Конечно, возраст, но чем, казалось бы, кроме него, примечателен этот документ — обычная перепись обыкновенных дворов. А в действительности своим смыслом, самим фактом своего существования он представлял чудо — первое свидетельство о городе после Смутного времени.
Смутное время — его начало уходило глубоко в предыдущее столетие, связывалось со смертью Ивана Грозного. Лишенное былого могущества родовитое боярство, которое беспощадно ломал Грозный, и разоренные холопы одинаково были его основой. Знатные боролись за власть, «низшие» искали облегчения своей жизни. Государство остро нуждалось в переустройстве. В сплошном калейдоскопе замелькали на престоле фигуры молоденького Федора, слишком романтично обрисованного Алексеем Толстым в его известной драме, Бориса Годунова, Василия Шуйского, самозванцев, которые олицетворяли для боярства поддержку Польши в их собственной борьбе за постоянно ускользающую из рук власть. Родоначальнику будущего царствующего дома Романовых Федору, который за попытку самому занять престол поплатился пострижением в монахи под именем Филарета, ничего не стоило присягнуть и первому Самозванцу, и Лжедмитрию II, которого называли Тушинским вором, только бы не потерять положения и влияния. Увлеченные борьбой бояре меньше всего задумывались над тем, что их переговоры с иноземными правителями оборачивались все худшими и худшими формами интервенции, полным разграблением государства. Они перебирали все новых и новых кандидатов — австрийский эрцгерцог Максимилиан (с него-то все и началось!), шведский король, польский королевич Владислав, против которого поспешил выступить его собственный отец. Казалось, им не виделось конца, так же как и народным бедствиям.
Осенью 1610 года в Москву от имени королевича Владислава вступил иноземный гарнизон, и сразу же в городе стало неспокойно. Враждебно и зло «пошумливали» на торгах и площадях горожане, бесследно пропадали неосторожно показавшиеся на улицах ночным временем рейтары. Шла и «прельщала» все больше и больше людей смута.
Против разрухи и иноземного засилья начинал подниматься народ, и к марту 1611 года, когда подошли к Москве отряды первого — рязанского ополчения во главе с князем Пожарским, обстановка в столице была напряжена до предела.
Для настоящей осады закрывшихся в Кремле и Китай-городе сторонников Владислава у ополченцев сил еще не хватало, но контролировать действия иноземного гарнизона, мешать всяким его вылазкам, в ожидании пока соберется большее подкрепление, было возможно. Сам Пожарский занял наиболее напряженный пункт, которым стала Сретенская улица. К его отряду примкнули пушкари из близлежащего Пушечного двора. При их помощи почти мгновенно вырос здесь укрепленный орудиями острожец, боевая крепость, особенно досаждавшая иноземцам.
Впрочем, 19 марта не предвещало никаких особенных событий. Снова ссора москвичей с гарнизоном — извозчики отказались тащить своими лошадьми пушки на кремлевские стены, офицеры кричали, грозились. Никто не заметил, как взлетела над толпой жердь, и уже лежал на кремлевской площади убитый наповал иноземец. Первая мысль солдат — смута обернулась войной. В дикой панике они кинулись, избивая всех на пути, на Красную площадь, начали разносить торговые ряды, и тогда загремел набат.
Улицы наполнились народом. Поперек них в мгновение ока стали лавки, столы, кучи дров — баррикады на скорую руку. Легкие, удобные для перемещения, они опутали город непроходимой для чужих стрелков и конницы паутиной, исчезали в одном месте, чтобы тут же появиться в другом. И тогда командиры иноземного гарнизона приняли подсказанное стоявшими на их стороне боярами решение — сжечь город. В ночь с 19 на 20 марта отряды поджигателей разъехались по Москве.
Население и ополченцы сражались отчаянно, и все же беспримерной, отмеченной летописцами осталась отвага Пожарского и его отряда. Пали один за другим все пункты сопротивления — огонь никому не давал пощады. Предательски бежал оборонявший Замоскворечье Иван Колтовской. Острожец продолжал стоять. «Вышли из Китая многие люди (иноземные солдаты. — Н. М.), — рассказывает современник, — к Устретенской улице, там же с ними бился у Введенского Острожку и не пропустил их в каменный город (так называлась Москва в границах бульварного кольца. — Н. М.) князь Д. М. Пожарский через весь день, и многое время тое страны не дал жечь». Сопротивление здесь прекратилось само собой. Вышли из строя все защитники острожца, а сам Пожарский «изнемогши от великих ран паде на землю». Потерявшего сознание, его едва успели вывезти из города в Троице-Сергиев монастырь.
Днем позже, стоя на краю охватившего русскую столицу огненного океана, швед Петрей да Ерлезунда потрясенно записал: «Таков был страшный и грозный конец знаменитого города Москвы». Он не преувеличивал. В едко дымившемся от горизонта до горизонта пепелище исчезли посады, слободы, торговые ряды, улицы, проулки, тысячи и тысячи домов, погребов, сараи, скотина, утварь — все, что еще вчера было городом. Последним воспоминанием о нем остались Кремль и каменные стены Китая, прокопченные дочерна, затерявшиеся среди угарного жара развалин.
Проходит девять лет. Всего девять. И вот в переписи те же, что и прежде, улицы, те же, что были, дворы в сложнейших измерениях саженями и аршинами с «дробными» — третями, половинами, четвертями. Опаленная земля будто прорастала скрывшимися в ней корнями. Многие погибли, многие разорились и пошли «кормиться в миру», но власть памяти, привычек, внутренней целесообразности, которая когда-то определила появление того или иного проезда, кривизну проулка, положение дома, диктовала возрождение города таким, каким он только что был, и с такой же точностью! Когда в 1634 году Гольштинское посольство в своем отчете о поездке в Московию использовало план начала столетия, неточностей оказалось немало, но только неточностей. Старый план — «чертеж земли Московской» ожил и продолжал жить.
Документ 1620 года говорил, что на перекрестках-«крестцах» снова открылись бани, харчевные избы, блинные палатки, зашумели торговые ряды, рассыпались по городу лавки, заработали мастерские. Зажили привычной жизнью калашники, сапожники, колодезники, игольники, печатники, переплетчики, лекарь Олферей Олферьев — тогда еще единственный в городе и его соперники — рудомсты, врачевавшие от всех недугов пусканием крови, «торговые немчины» — иностранные купцы с Запада, пушкари, сарафанники, те, кто подбирал бобровые меха и кто делал сермяги, — каких только мастеров не знала Москва тех лет! И вот среди их имен и дворов двор князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: