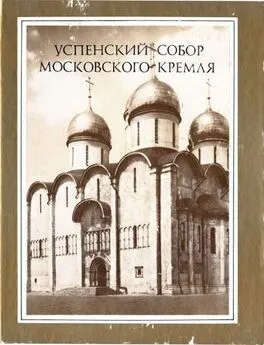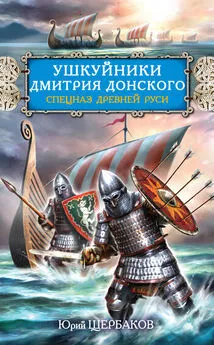Дмитрий Лихачев - Национальное самосознание Древней Руси
- Название:Национальное самосознание Древней Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР
- Год:1945
- Город:Лениеград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Лихачев - Национальное самосознание Древней Руси краткое содержание
Эта небольшая книга не ставит себе целью всестороннее и полное освещение истории развития национального самосознания русского народа в пределах XI — XVII вв. Национальное самосознание в Древней Руси имеет своими показателями не только памятники письменности и искусства: борьба за свою политическую и культурную самостоятельность и за свое государство служит самым ярким свидетельством высокого уровня национального сознания русского народа. Вот почему настоящая работа возникла отчасти под влиянием работ академика Б. Д. Грекова, посвященных теме борьбы Руси за свое государство и политическую независимость.
Под общей редакцией Комиссии АН СССР по изданию научно-популярной литературы
Председатель Комиссии академик В. Л. КОМАРОВ
Зам. председателя академик С. И. ВАВИЛОВ
Зам. председателя чл. — корр. АН СССР П. Ф. ЮДИН
Ответственный редактор академик А. М. ДЕБОРИН
Национальное самосознание Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Новые формы летописания и исторического повествования, которые с такою интенсивностью развиваются в XII в., выросли из непосредственных потребностей самой русской жизни, из тех явлений, которые имели место на русской почве еще до принятия ею христианской цивилизации Византии. Византийская историческая литература не знала семейных и родовых летописцев. Это — явление чисто русское; оно должно быть поставлено в связь с теми устными родовыми преданиями, существование которых мы предполагаем на основании некоторых фрагментов их в летописи.
Летописание на Руси становится жизненной необходимостью, бытовым явлением. Князья заинтересованы в нем как в политическом документе своих прав и притязаний и решительно озабочены своевременным ведением летописных записей.
Однако не одни князья и монастыри ведут свои летописи. Рядом с личным и родовым летописанием князей начинает развиваться летописание городское. Изгнание в 1136 г. новгородского князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, восставшим ремесленным и сельским населением грозит прекращением княжеского летописания мономаховичей в Новгороде. Поэтому новое новгородское правительство с Нифонтом во главе берет летописание в свои руки.
В 1136 г. по приказу Нифонта доместик новгородского Антониева монастыря Кирик составляет работу по хронологии, подсобного для ведения летописи характера, — «Учение, им же ведати числа всех лет» — и в том же 1136 г. принимает участие в широко задуманном пересмотре всего предшествующего княжеского летописания Новгорода. Летопись мономаховичей (с «Повестью временных лет») отбрасывается из начала новгородского летописания и заменяется резко антикняжеским Киево-Печерским сводом 1093 г. Составляется тот «Софийский временник», который затем продолжается в Новгороде до самого его присоединения к Москве. «Софийский временник» открывался предисловием, полным горьких упреков князьям в «ненасытстве», в алчности, в притеснении людей вирами и «продажами», налогами и поборами. Упреки эти были как нельзя более своевременны в Новгороде в середине XII в., когда одни за другими отбираются у новгородского князя его доходы, урезываются права, конфискуются земли.
Можно думать, что такие же городские летописи велись и по другим областям: в Полоцке, в Ростове, в Галицко-Волынской области. Дробление летописания на этом не остановилось. Насколько распространенным было ведение летописей в XII в., показывает наличие в течение двух столетий (XII и XIII) интенсивного летописания при незначительной новгородской церкви Якова в Неревском конце, воздвигнутой на месте победы новгородцев над полоцким князем Всеславом, происшедшей в день Якова, «брата Господня». Первый летописец этой церкви — Герман Воята — ведет свою летопись в 40-х—80-х годах XII в. почти, как личный дневник. Часто он делает свои записи от первого лица; во многих из них он проявляет интересы городского обывателя, сообщающего городские слухи (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), сведения о погоде (1145), об уличных происшествиях, о сене, о дровах, об урожае, о состоянии воды в Волхове (1145), о поломках и починках моста через Волхов (1142, 1143), о раннем громе (1138), о поздно стоящей дождливой погоде (1143), наконец, о собственном поставлении в попы (1144) и т. д.
Летопись Германа Вояты наглядно свидетельствует, насколько развитым и распространенным было в XII в. ведение летописей, насколько сильным и всеобщим было в XII и XIII вв. стремление к историческому осмыслению событий. Летописание, которое в XI в. в основном держалось мощной поддержкой Киевской митрополии или Киево-печерского монастыря, отражало традиции византийской императорской историографии, отныне становится достоянием княжеских семей, городских церквей, превращается в повседневное бытовое явление.
В XII в. широкой струей вливается в язык летописи и исторического повествования дипломатическая, деловая, военная терминология и бытовое просторечие. В новгородскую летопись проникают местные диалектизмы, разговорные обороты с пропуском сказуемого или подлежащего, в ней почти отсутствуют книжные, церковно-славянские обороты речи. Записи Германа Вояты в составленной им летописи ведутся запросто, с употреблением чисто просторечных выражений: «бысть гром велий, яко слышахом чисто в истьбе седяще» (Новгородская летопись по Синодальному списку, 1138), «стояста 2 недели пълне, яко искря жгуце, тепле вельми, переже жатвы; потом найде дъжгь, яко не видехом ясна дни ни до зимы; и много бы уйме жит и сена не уделаша; а вода бы больши третьего лета на ту осень; а на зиму не бысть снега велика, ни ясна дни, и до марта» (1145). Летописец сообщает, как посадника Якуна сбросили с Волховского моста, «обнаживъше, яко мати родила» (1141), в просторечной манере говорит о граде, выпавшем величиной «яблъков боле» (1157) и т. д. и т. п.
Грандиозное по исполнению отдельных сводов в XI в., летописание в XII в. становится не менее грандиозным по широте своего распространения, по многочисленности отдельных сводов, по глубине проникновения в народную жизнь.
Однако потребность в историческом осмыслении происходящего не ограничивается в XII в. только составлением многочисленных летописцев и летописных сводов. Те же потребности вызывают появление в XII в. обширной и разнообразной литературы повестей о междукняжеских отношениях. В повестях этих рассказывается о наиболее важных моментах княжеских распрей, нарушениях крестных целований, братоубийственных войнах, ослеплениях, политических убийствах и т. д. Авторы этих повестей ставили себе целью доказать правоту одних и виновность других.
Знаменательно то, что при том же Владимире Мономахе, со времени которого начинает развиваться родовое и личное летописание князей, составляется и первая повесть этого типа, повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Затем следует многочисленный ряд повестей с аналогичным содержанием: повести об убиении Игоря Ольговича, послужившем поводом для распри Святослава Ольговича черниговского и Изяслава Мстиславича киевского, повесть киевлянина Кузмища об убиении Андрея Боголюбского, повесть боярина Петра Бориславича о клятвонарушениях и смерти Владимира галицкого и ряд других.
Повести эти пространные, изящно написанные, насыщенные бытовыми подробностями, дышащие азартом междукняжеской борьбы своего времени, составлялись обычно непосредственными участниками событий, чаще всего послами (поп Василий, Петр Бориславич, киевлянин Кузмище); они наполнены драматическими подробностями, точно передают содержание переговоров, речи князей и послов, насыщены дипломатической терминологией своего времени. Повестей этих особенно много в летописях Киевской, Галицкой и Волынской, благодаря чему вместивший все эти летописи Ипатьевский список кажется особенно пространным и литературным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: