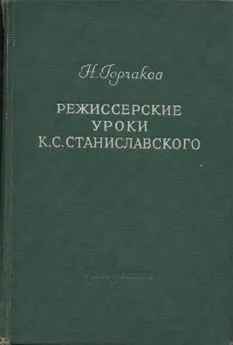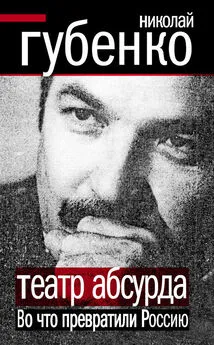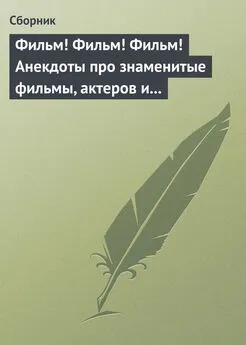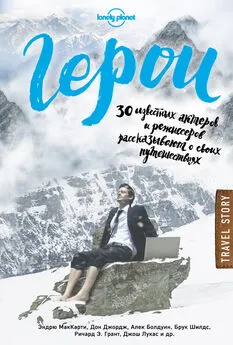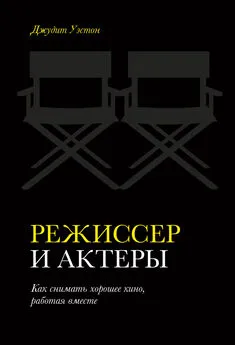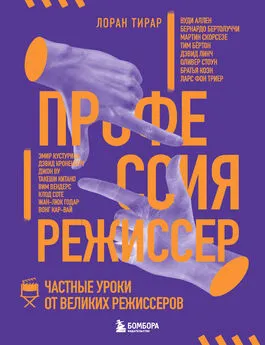Е Громов - Николай Губенко - Режиссер и актер
- Название:Николай Губенко - Режиссер и актер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е Громов - Николай Губенко - Режиссер и актер краткое содержание
Николай Губенко - Режиссер и актер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но это наше допущение, додумывание ситуации. В "Запретной зоне" поразительную черствость к чужой беде проявляют именно дачники, хотя и не все. Это вызвало, можно тоже сказать, классовое возмущение у некоторых критиков. Они усмотрели в ленте Губенко не больше и не меньше, как антиинтеллигентскую акцию. Несколько лет тому назад подобные обвинения высказывались Василию Шукшину, - он, дескать, принижает роль городской интеллигенции. Доставалось и Э. Брагинскому - Э. Рязанову в связи с их замечательным фильмом "Гараж". Зачем же они высмеивали научную интеллигенцию? Есть-де объекты, более подходящие для сатирического обстрела. (В фильме "Гараж" высмеиваются старшие и младшие научные сотрудники, затеявшие ожесточенные баталии из-за гаражных боксов.) Но критические упреки Брагинскому и Рязанову высказывались в достаточно мягкой, уважительной форме. Губенко же били порою беспощадно, наотмашь.
Например, в статье, опубликованной в "Литературной России", под уничижительным названием "Скандал в коммуналке", безапелляционно заявлялось, что картина, сделанная режиссером, причисленным к так называемому "авторскому кино" (он же автор сценария), то и дело прямо обескураживает примитивностью и плакатностью авторской мысли, подчас просто слабостью драматургии и режиссуры". Главная претензия: интеллигенция, которая в нашей литературе и культуре по традиции отводилась роль духовного пророка, искателя истины, показана в фильме Губенко (и в фильме В. Трегубовича "Башня" - в статье рассматривались две ленты, кстати, весьма мало схожие друг с другом, - Е. Г.), сугубо превратно. Автор якобы считает, что она "просто-напросто зажралась"11.
Относительно традиций в художественном изображение интеллигенции автор статьи явно не курсе дела. Духовным пророком, взятое как нечто целое, ее не изображал ни Ф. Достоевский, ни Лев Толстой, ни А. Чехов, ни М. Шолохов, ни В. Шаламов. Интеллигенция, в лице ее конкретных представителей, показывается в их произведениях разной: и благородной, и самоотверженной, и жалкой, и трусливой...Разной она предстает и в фильмах Губенко, - от его первой картины до последней.
Столь же резко, хотя и более основательно, выступил против "Запретной зоны" и специальный кинематографический журнал "Искусство кино". Впрочем, это основательность странного рода. Как бы помимо фильма. Что-то важное в нем порою совсем не замечается, и усматривается того, чего и в помине нет. Читая эту статью, я иногда ловил себя на мысли, что автор статьи рассуждает о какой-то иной картине, чем та, о которой дружественно писал Лен Карпинский и другие критики, и о которой пишу я.
В журнале "Искусство кино утверждалось, что в "Запретной зоне" в шаржированном виде показана интеллигенция в ее полном отдалении от народа. На нее, дескать, облыжно возложена вина за его нищенское существование. Разве губенковские дачники, патетически вопрошает критик, "виноваты в том, в чем их обвиняет фильм, - в низком уровне жизни трудящихся, в необеспеченности их жильем, в бедности и не уюте быта? Разве они, а не представители власти - как советской, так и партийной, - которые, как Иванцев и Третьякова, появляются в фильме этакими ангелами справедливости и участия? Да нет, конечно, могли быть - и были - такие руководители честные, добросовестные, радеющие о людях. Но если они столь многое определяли, решали - откуда тогда застойные, предкризисные явления? Фильм, предполагающий обобщенный образ, фильм, рассказывающий о событиях 1984 года, на мой взгляд, грешит против истины, ибо тогда непонятно, с кем и о чем нам сегодня приходится бороться"12.
Уместно спросит, что же "многое" определяла Третьякова? Как могла, она помогала людям. Не больше, и не меньше. И никакой благостной картины партийно-государственной заботы о жертвах страшного смерча в фильме нет, он - о другом. О разъединении людей.
Совсем уже не справедлив тот суровый приговор, который назидательно выносится Губенко. "Вместо того чтобы глубоко исследовать поразившие общество в целом негативные процессы, вместо того, чтобы показать роль и поведение властей, огонь направляется в адрес "никудышной" нашей интеллигенции. Здесь создатели фильма полностью, на мой взгляд, солидаризируются с концепцией В. Белова, выраженной в романе "Все впереди", с попыткой переложить ответственность за нравственное падение общества на плечи "интеллигентов". Дачники в "Запретной зоне" говорят: "Мы тоже люди". Авторы фильма с этим не хотят считаться"13.
Современному читателю, вероятно, мало, что говорит упоминание о романе "Все впереди", который в те годы носил знаковый характер. Там в пух, и в прах разносится та московская интеллигенция, которая настроена резко прозападнически. Роман, назойливо тенденциозный, художественно слабый, не украшающий крупного русского писателя Василия Белова. Олицетворение этой, с позволения сказать, интеллигенции служит циник и пошляк Миша Бриш. В финале он собирается эмигрировать в Америку или в Израиль, что крайне возмущает автора.
Ничего и близкому всему этому нет у Н. Губенко. Нет ни в намеке, ни в подтексте. Его дачники рассуждают о собственности, о взятках, о реформах, о необходимости крепкой власти, о распустившейся молодежи, о растущей преступности, но проблемы нынешнего или прошлого славянофильства и западничества никак не присутствуют в их разговорах. И уезжать они из СССР не собираются, они и здесь неплохо устроились.
Причем сам Николай Губенко, при всем своем сильно развитом патриотическом чувстве, искренней и истовой любви к Родине, трезво критичен по отношению к национально-русской мифологии и традиции, если ею пытаются заслониться от кардинального решения насущных социальных проблем. С этой точки зрения особенно характерен финал, данный режиссером, чего не захотел заметить рецензент "Искусства кино", в иронично-саркастическом ключе.
После дежурно восторженного телерепортажа о принимаемых властями решительных мерах по ликвидации стихийного бедствия, когда всех фигурантов заставили говорить в духе лозунговой праздничности, показывается концерт. Им заправляет вездесущий Миновалов. Откровенной издевкой служат его слова, произносимые им по долгу службы пред телекамерой: "... Счастье жить в стране, где чужой беды не бывает. Беда, это как клич, как зов друзей, как говорится, познаются в беде. Иначе, согласитесь, у нас и не бывает". Миновалов косноязычен, но очень "правилен". А сколько подобных "правильных" слов произносили и произносят многие наши творческие деятели, в них не веря? И разве тем самым, не участвуя в идеологическом укреплении системы? И что, не эти ли деятели оформляли и отправляли торжественные ритуалы государственных и партийных мероприятий?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: