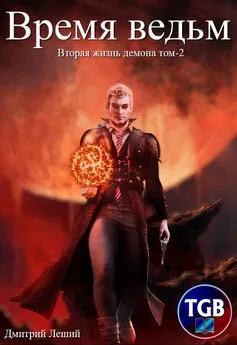Эрнест Лависс - Том 4. Время реакции и конситуционные монархии. 1815-1847. Часть вторая
- Название:Том 4. Время реакции и конситуционные монархии. 1815-1847. Часть вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОГИЗ
- Год:1938
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнест Лависс - Том 4. Время реакции и конситуционные монархии. 1815-1847. Часть вторая краткое содержание
Том 4. Время реакции и конситуционные монархии. 1815-1847. Часть вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Торжество реакции. Барлсбадские и венские постановления.Узнав в Италии об этих покушениях, Меттерних не утратил своего хладнокровия и не впал в ошибку относительно истинного размера революционных сил; он постарался использовать тот страх, который эти покушения нагнали на государей. Обеспечив себе на свидании с Фридрихом-Вильгельмом в Теплице (июль 1819 г.) поддержку со стороны Пруссии, он созвал в Карлсбад министров главных немецких дворов (август 1819 г.). Здесь решено было поставить университеты под строгий надзор, запретить все тайные общества, установить цензуру для газет и для книг объемом менее двадцати листов и организовать во Франкфурте центральную следственную комиссию, на обязанности которой лежало бы следить за происками «демократов». Это был настоящий государственный переворот.
Меттерних желал большего: он хотел бы принудить новые конституционные государства урезать права представительных собраний, — только тогда водворится полная тишина, и мелким германским государям, в случае борьбы со своими подданными, ничего иного не останется, как тесно примкнуть к Австрии.
Но в последнюю минуту те, кого он собирался взять под свое покровительство, почуяли ловушку. Прусские деловые люди оказались догадливее дипломатов и ревниво отстаивали свою свободу действий. В Баварии наследнику престола Людвигу претила всякая мысль о государственном перевороте. Вюртембергский король Вильгельм I, деятельный, честолюбивый, мечтавший стать во главе чисто тевтонской Германии, из которой были бы в одинаковой мере выделены и славяновенгерские и прусские земли, собрал вокруг себя всех, кого встревожили происки Меттерниха. Таким образом, Меттерних, рассчитывавший на Венской конференции закончить то, что пачато было в Карлсбаде, встретил здесь неожиданное сопротивление (ноябрь 1819—май 1820 гг.) и должен был взять назад некоторые свои требования. Венский заключительный акт (24 мая 1820 г.) носил характер компромисса: реакционные постановления предшествующего года остались в силе, но, по крайней мере, конституции южных государств не были упразднены, и была гарантирована независимость мелких государей. Вильгельм Вюртембергский, несколько опьяненный своей победой, попытался было использовать ее, и Еокруг его представителя во» Франкфурте, Вангенгейма, собралась кучка задорных послов, старавшихся, словно для забавы, каждый раз оставлять на сейме Пруссию и Австрию в меньшинстве. Меттерних потребовал отозвания Вангенгейма, и когда Вильгельм I отказал, австрийский посланник покинул Штутгарт. Тогда вюртембергский король смирился. Австрия послала во Франкфурт руководить сеймом Мюнх-Беллин-гаузена (1823). Будучи более твердвш человеком, чем его предшественник, и усиленно поддерживаемый прусским делегатом Наглером, Мюнх-Беллингаузен легко сломил последние остатки противодействия. В 1824 году карлсбадские постановления, принятые лишь на пять лет, были продолжены sine die (без срока); полномочия майнцской центральной комиссии были возобновлены; реакция торжествовала по всей линии; запуганные местные парламенты покорно следовали указаниям министров. Съезд в Иоганнисберге летом 1824 года, когда Меттерниха окружали государственные люди со всей Германии, подобострастно ловя каждое его слово, был кульминационным пунктом его могущества. Он с изысканным тщеславием и мнимо-добродушным педантизмом играл роль Юпитера-охранителя. Посредством мягкого, но непрерывного давления он сумел преобразовать Германский союз в своего рода австрийский протекторат.
Пробуждение Германии. Южные либералы. Новые умственные течения.Но это было несколько искусственное и довольно бесплодное торжество. Меттерних приобрел доверие второстепенных дворов и имел их на своей стороне лишь до тех пор, пока отказывался от мысли сделать более прочными федеральные узы. Его господство было, в сущности, самоотречением: в ту минуту, когда он попытался бы извлечь какую-нибудь выгоду из своей гегемонии или упрочить ее, она неизбежно рухнула бы. И это шаткое и сомнительное влияние ему пришлось купить очень дорогой ценой. Австрия охладила симпатии к себе своих друзей, весьма многочисленных еще в 1814 году, и безнадежно восстановила против себя Есех тех, кто не отрекся от грез о свободе и объединении. Вначале эти враги были бессильны, но реакция играла им в руку. Несоответствие между мнимой социальной опасностью и крайностями репрессий было так велико, что даже умеренные и равнодушные люди постепенно начали испытывать сострадание к преследуемым. Мало-помалу раны, нанесенные Германии войной, затянулись, а с достатком вернулась и охота к рассуждениям. Так как сейм ставил себе единственной задачей подавлять всякое' движение, то общество отвернулось от него. Меттерних превратил сейм в орган политической полиции: естественно, что недовольные горели желанием умалить власть этого учреждения. Весь интерес сосредоточился на местных парламентах; партия объединения как будто исчезла, и на первый план выступили вопросы о свободе и конституции. Между тем как в северной Германии господствовали еще феодальные воззрения и народ прозябал в полурабстве, южная Германия, где земельная собственность была более раздроблена, буржуазия более многочисленна, население требовательнее и живее и умственное влияние соседней Франции сильнее, становится на несколько лет центром прогрессивной оппозиции.
Среди всеобщего застоя южные конституционалисты пробудили в народе интерес к политической жизни, и хотя часто их гораздо больше занимали мелкие ссоры, чем судьба германского отечества, тем не менее, в общем, они были наряду с прусскими чиновниками и дипломатами одним из главнвк факторов объединения Германии. Их роль была очень трудна; даже либеральнейшие из государей необыкновенно скупо отмеряли ту долю независимости, которую решились даровать своим подданным, и немецкий конституционный строй представлял собой весьма неопределенный компромисс между вотчинными традициями и парламентскими учреждениями. Либералам нужно было немалое мужество и упорство, чтобы постепенно ослабить встречаемое ими сопротивление, расширить права представительных собраний, организовать свою партию и создать общественное мнение. Не раз высказывавшееся мнение об их равнодушии к вопросу объединения ошибочно: они думали только, что вернейшее средство образовать единое государство заключается в том, чтобы сначала создать нацию, и если они обращались к Вольтеру и энциклопедистам, то их побуждала к этому необходимость бороться с Галлером и Шлегелем.
Химеры мистиков и сентиментальное ребячество эстетов надоели публике; люди силились рассеять туман, в котором они бились, и снова стать твердой ногой на незыблемую почву действительности. Гегель, со времени приглашения его в Берлинский университет (1818) властно руководивший умами, давал чувствовать за своей туманной фразеологией и своими консервативными декларациями глубокое отвращение к романтическому хламу и, провозглашая все действительное разумным, протестовал во имя жизни, во имя настоящего против безумных затей апостолов средневековья. Еще до выступления на сцену его радикальных истолкователей его преподавание, бывшее не чем иным, как переложением доктрины Гердера на язык метафизики, и содержавшее в себе терпимость, подчинение личности обществу и относительность всякого знания и догматов, было чревато революционными выводами [22] Учение Гегеля было величайшей философской системой, завершившей развитие немецкого классического идеализма (Кант, Фихте, Шеллинг); поэтому нельзя рассматривать его учение как «переложение на язык метафизики доктрины Гердера», в сочинениях которого разбросаны лишь отдельные мысли, не имеющие самостоятельного философского значения. Истинное значение и революционный характер философии Гегеля состояли в его диалектическом методе; однако диалектика Гегеля была ограничена консервативной, идеалистической системой, исходя из которой Гегель признавал «венцом творения» прусскую сословно-представительную монархию, лютеранскую религию и свою философскую систему. «Радикальные последователи» Гегеля — левогегельянцы (братья Бауэры, Штраус, вышедший из этой школы Фейербах и др.) отбросили реакционные выводы философской системы Гегеля, выступив с отрицанием прусских порядков; в молодости, до 1842–1843 года, с левогегельянскпм направлением были связаны К. Маркс и Ф. Энгельс. Диалектика Гегеля, основное зерно его философской системы, послужила Марксу и Энгельсу одним из теоретических источников в формировании мировоззрения революционного пролетариата и его философской основы — диалектического материализма. Диалектический метод Маркса и Энгельса развит ими, в противоположность идеалистической диалектике Гегеля, на материалистической основе: он является «аналогом действительности». Что же касается идей Гердера, то их охотно, начиная с 40-х годов XIX века, пропагандировал немецкий буржуазный национализм. — Прим. ред.
.
Интервал:
Закладка: