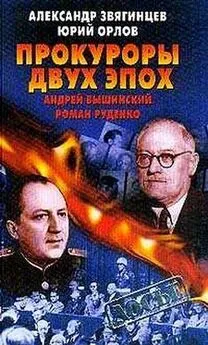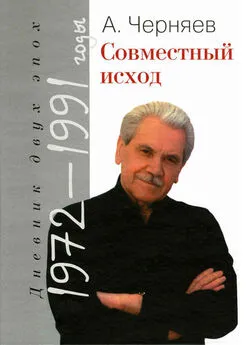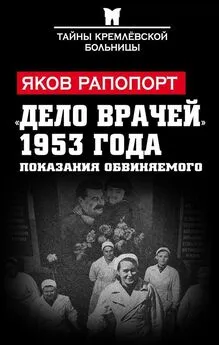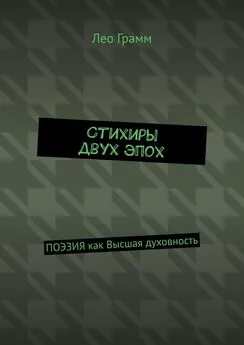Яков Рапопорт - На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года
- Название:На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-89803-107-3, 978-5-89803-107-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Рапопорт - На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года краткое содержание
Яков Львович Рапопорт, 1898 г. рождения, известный советский ученый патологоанатом, заслуженный деятель науки, автор ряда выдающихся научных исследований, широко известных в СССР и за рубежом, Я. Л. Рапопорт был репрессирован по "Делу врачей" 1953 г. Эта книга первый и единственный литературный труд, освещающий многие стороны этого дела и попутно затрагивающий межнациональные отношения и проблемы морально-этического характера. Оки заслуживают серьезного осмысления, тем более, что автор — бесспорно достойный и мужественный человек. Издается на правах авторской книги. Для широкого круга читателей.
Эта книга важна прежде всего как свидетельство мужества одинокого человека, не сломившегося и выстоявшего под прессом гигантской государственной машины подавления. Имя Якова Львовича Рапопорта, ученого с мировой известностью, останется не только в истории науки, но и в политической истории России среди имен российских интеллигентов, сумевших в сталинских застенках явить свое несравненное духовное превосходство над чекистскими людоедами.
На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В один из этих напряженных дней (точнее — вечеров), когда я был введен в кабинет для очередного допроса, следователь обратился ко мне с заявлением, что сегодня я нужен как эксперт, а не как подследственный, с предложением ответить на ряд следующих вопросов: "Что такое Чейн-Стоксовское дыхание?" Я ответил, что это одна из форм так называемого периодического дыхания, и разъяснил его сущность. "Когда встречается такое дыхание?" Я ответил, что физиологически оно бывает у младенцев, а у взрослых возникает при тяжелых поражениях центров дыхания в головном мозгу — при опухолях мозга, кровоизлияниях в мозг, тяжелых токсических поражениях мозга, например при уремии, тяжелом артериосклерозе мозга. "Как повлиять на Чейн-Стоксовское дыхание, чтобы ликвидировать его?" Я ответил, что влиять надо не на самое дыхание, а на причины, его вызвавшие. "Может ли человек с Чейн-Стоксовским дыханием выздороветь?" Я ответил, что это очень грозный, часто агональный, симптом и что при наличии его в большинстве случаев необходимо умереть (я так и сказал: "необходимо!"). Все ответы он тщательно, с внешней невозмутимостью записал. Я полагал, что речь идет о какой-то истории болезни, фигурирующей в деле кого-то из арестованных. Далее следователь спросил, кого из крупных специалистов я мог бы порекомендовать для очень серьезного больного. Я ему ответил, что не знаю, кто из таких специалистов находится на свободе, чтобы я мог его рекомендовать. Он был в затруднительном положении, так как ни в коем случае не должен был знать о том, что делается "на свободе", подследственный из режимной тюрьмы. Он повторил свой вопрос, сказав: "Ну, а все-таки?" Я ответил: "Отличный врач Виноградов, но он — у вас. Превосходный врач Вовси, он тоже у вас. Большой врачебный опыт у Василенко, но он у вас. Прекрасный диагност Этингер, он у вас. Серьезные врачи оба Коганы, но один из них давно умер, а другой у вас.
Если нужен невропатолог, то самым крупным клиницистом-невропатологом я считаю Гринштейна, но он у вас. В качестве отоляринголога я рекомендовал бы Преображенского или Фельдмана, но они оба у вас". В общем, я перечислил всех крупных специалистов (это был длинный перечень), которых я мог бы рекомендовать в качестве врачей, но все они оказались "у вас", и предложил назвать мне остающихся на свободе, чтобы я мог дать им рекомендацию, соответствующую их врачебным качествам. Он задумался и назвал мне четыре фамилии. Ни одному из их носителей (хотя двое имели громкое имя в советской науке) я не мог дать рекомендации, приближающейся к той, которую я дал арестованным специалистам. Он очень удивился и даже начал спорить, ссылаясь на то, что один из них — академик Академии медицинских наук. На это я ответил, что он просит рекомендовать опытного врача, а не академика, и что это — не одно и то же. Лишь одного из четверых я мог рекомендовать как врача, но рангом гораздо ниже арестованных.
По выходе на свободу и знакомству с газетами февральско-мартовского периода 1953 года я увидел, что вся "экспертиза" была посвящена бюллетеням о болезни Сталина и врачам, подписавшим их. Оказалось, что аналогичные "экспертизы" давали заключенные профессора М. С. Вовси, Э. М. Гельштейн, а может быть, и другие сопроцессники, и оба дали совпадающие с моей характеристики врачебному профессионализму лечивших Сталина профессоров.
Сложилось впечатление, что соратники и эпигоны Сталина хотели выяснить прогноз его болезни, не может ли он выздороветь, не слишком ли хорошие врачи его лечат и, не дай бог, вылечат. Моя "экспертиза" должна была их успокоить, и ближайшие события подтвердили ее профессиональную безупречность:
"необходимость" умереть стала доказанной. Больной скончался 5 марта, но я в своей лефортовской одиночке об этом ничего не знал и не подозревал, что эта смерть Сталина спасла мне и многим другим жизнь и радикально изменила общественно-политический климат в СССР.
После "экспертизы" ничто не изменилось в моей обстановке: те же наручники, те же допросы, только несколько изменился характер допросов и их напряжение. Последнее я скорее ощутил, чем осознал. Следователь стал как-то ленивее, с меньшей экспрессией задавал свои глубокомысленные вопросы, часто исчезал, оставлял вместо себя надзирателя, дремавшего, сидя на диване, и просыпавшегося с виноватой улыбкой. Я тоже не дремал, чтобы воспользоваться одновременно предоставившейся возможностью подремать за своим столом. Менее настойчивым стало выколачивание "костей на собачью сковородку", хотя оно и продолжалось. 9 марта (я запомнил эту дату) меня вдруг вызвали на допрос днем и ввели в другой кабинет. Там сидел какой-то полковник и мой следователь. Внешность полковника поразила меня полным отсутствием хоть какой-либо симпатии, которая все же хоть в какой-то мере была на лице моего следователя и приходивших к нему часто его молодых коллег. Маленького роста, щуплый, с мордой какого-то мелкого хищного животного — то ли хорька, то ли крысы, на которой была написана злоба и ненависть к всему человеческому. Я подумал:
"Не дай бог попасть к нему в лапы". Допрос вел он при угодливом поддакивании моего куратора. Я не могу пересказать детальное содержание всего допроса, где вопросы были густо пересыпаны отборной матерщиной. Она встречалась иногда и у моего следователя, но не носила такого злобного характера, и я иногда, чтобы снизить в его глазах производимое на меня ею впечатление от нее, показывал, что и мне знакома "изысканность русской медлительной речи" и что я владею этим лексиконом, хотя и хожу в еврейских буржуазных националистах. В "беседе" с полковником террор занимал относительно мало места. Я говорил ему, что ошибки встречаются в деятельности любого врача, что они обсуждаются на открытых клинико-анатомических конференциях без вмешательства судебных органов, за исключением разве тех редких случаев, когда они были результатом преступной небрежности. Такие ошибки встречались в моей практике у многих крупных хирургов, в том числе и у Бакулева, и они с полной откровенностью говорили о них, иногда и до вскрытия. На эту элементарную информацию о принципах взаимоотношений клинициста и патологоанатома мой злой оппонент угрожающе зарычал: "Ну что же, мы и Бакулеву покажем". Что он "покажет", он не доложил. Тема о принципах этих взаимоотношений неоднократно звучала в дискуссиях с моим "куратором", и когда он однажды стал утверждать непогрешимость органов МГБ (в ответ на мое утверждение, что такие ошибки делаются и, в частности, они допущены и в отношении меня и повели к моему аресту), я ему ответил: "Ошибки делаете и вы, и мы, разница между ними лишь та, что ваши ошибки обычно ведут к смерти ваших пациентов". Попытка дать такое разъяснение полковнику вызвала только бешеную ругань, в противоположность моему "куратору", который относился к этому более спокойно, упорно утверждая только непогрешимость МГБ в отношении меня и других моих коллег.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: