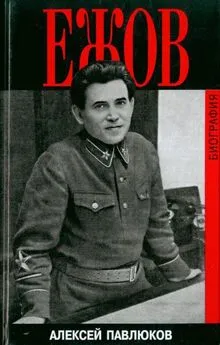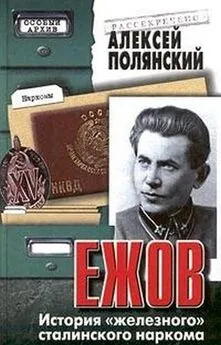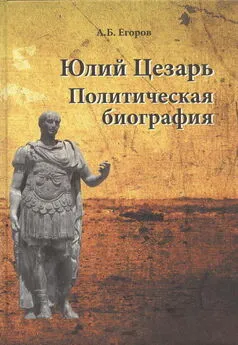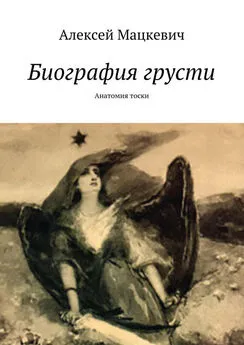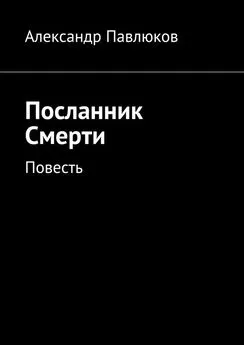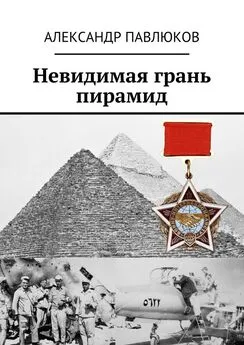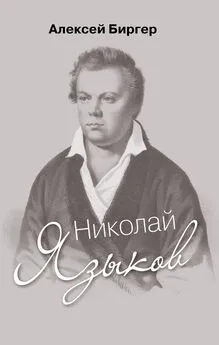Алексей Павлюков - Ежов. Биография
- Название:Ежов. Биография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8159-0686-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Павлюков - Ежов. Биография краткое содержание
Имя Николая Ивановича Ежова известно почти любому человеку в нашей стране и многим за ее пределами. В данной книге на основе никогда ранее не публиковавшихся архивных документов, в том числе и материалов его 12-томного следственного дела, рассказывается об основных этапах жизни Н. И. Ежова, при этом первоочередное внимание уделяется его деятельности на посту наркома внутренних дел СССР в период массовых репрессий конца 30-х гг. прошлого века.
Другим главным действующим лицом книги является И. В. Сталин, который, говоря словами известного советского писателя А. А. Фадеева, «выращивал Ежова, как садовник выращивает облюбованное им дерево».
Взаимоотношения этих двух людей, начиная с момента расследования обстоятельств убийства С. М. Кирова в декабре 1934 г. и вплоть до финальной точки, поставленной в феврале 1940 г., являются важной сюжетной канвой данного исторического исследования.
Ежов. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Даже сейчас, — продолжал Ежов, — работа по ликвидации на местах польских диверсионно-шпионских групп и организаций «ПОВ» полностью не развернута. Темпы и масштабы следствия крайне низкие. Основные контингенты польской разведки ускользнули даже от оперативного учета (из общей массы перебежчиков из Польши, насчитывающей примерно 15000 чел., учтено по Союзу только 9000 чел.). В Западной Сибири из находящихся на территории около 5000 перебежчиков учтено не более 1000 чел. Такое же положение с учетом политэмигрантов из Польши» {316} 316 Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. 2004. С.301.
.
Теперь пришло время исправлять допущенные ошибки. С 20 августа 1937 г. предписано было начать, а три месяца спустя — завершить широкую операцию по ликвидации региональных подразделений «ПОВ», и в первую очередь ее диверсионно-шпионских и повстанческих кадров в промышленности, на транспорте, в колхозах и совхозах. На тот случай, если органы НКВД на местах никакими сведениями о подпольных польских организациях не располагали, Ежов в своем приказе дал перечень лиц, подлежащих аресту. Он включал оставшихся в СССР со времен советско-польской войны 1920 года бывших военнопленных польской армии, перебежчиков из Польши, независимо от времени их перехода в СССР, польских политэмигрантов, бывших членов «Польской партии социалистов», а также антисоветски и националистически настроенных граждан в районах компактного проживания польского населения.
Из перечисленных категорий в первую очередь предлагалось арестовать тех, кто работает в органах НКВД, в Красной Армии, на военном производстве, транспорте, нефте-газоперерабатывающих предприятиях, в энергетике, а кроме того, всех шпионов, вредителей и диверсантов, о которых станет известно в ходе следствия.
В отличие от приказа по немцам, приказ по полякам, как и последовавшие вслед за ним аналогичные решения по некоторым другим национальным группам, касался уже исключительно советских граждан (советских немцев тоже, кстати, репрессировали именно по данной схеме). Многое объединяло его с приказом № 00447, в соответствии с которым 5 августа 1937 г. в стране началась массовая операция по очистке советского общества от неблагонадежных, с точки зрения Сталина, элементов, но имелись и существенные отличия.
Если судьбу граждан с неблагополучным социальным или уголовным прошлым решали на местах три человека (начальник управления НКВД, прокурор и партийный секретарь), то для репрессирования лиц с «плохой» национальностью хватало, по мнению Сталина, и первых двух. Так в дополнение к пресловутым «тройкам» появились и гораздо менее известные «двойки». Это была вполне уместная предосторожность — при том размахе беззакония, который можно было ожидать от операций по национальным линиям, лишние участники и свидетели были совершенно ни к чему.
Из-за столь узкого состава «двойки», в отличие от «троек», не имели судебных функций и могли лишь рекомендовать ту или иную меру пресечения, а окончательное решение должно было приниматься в Москве Комиссией наркома внутренних дел и Прокурора СССР, а проще говоря, Ежовым и Вышинским. Сами они, конечно, не имели возможности разбираться с присылаемыми из регионов материалами. Этим занимались работники центрального аппарата НКВД, а Ежов с Вышинским или их заместители лишь подписывали итоговые протоколы.
Еще одно отличие от операции в рамках приказа № 00447 заключалось в отсутствии определенных квот на репрессирование. Право решать, сколько людей следует расстрелять, а сколько отправить в лагеря и тюрьмы, было в этом случае предоставлено чекистам на местах, которые, понимая, чего от них хотят, и стремясь оправдать ожидания руководства, стали, естественно, действовать по принципу «чем больше, тем лучше». Это касалось как общей численности репрессируемых, так и доли осужденных по первой категории. (Если на «тройках», рассматривавших дела арестованных по приказу № 00447, к расстрелу было приговорено 49,3 % всех подследственных, то на «двойках» этот показатель был доведен уже до 73,7 % {317} 317 См.: Петров Н. В., Рогинский А. Б. Польская операция НКВД 1937-38 гг.// Репрессии против поляков и польских граждан. М, 1997. С. 32–33.
).
Разобравшись с немецкими и польскими шпионами, Сталин обратил свой взор на Дальний Восток, где тоже было не все благополучно. В связи с начавшейся в июле 1937 года японской интервенцией в Китае, военно-политическая обстановка в регионе становилась все более напряженной, и пора было принимать меры, гарантирующие режим от разного рода неожиданностей. Наряду с укреплением советских позиций в Монголии (о чем пойдет речь в одной из следующих глав), Сталин решил нанести удар по потенциальной японской агентуре в СССР, к которой, по его мнению, относились проживающие на Дальнем Востоке корейцы и так называемые «харбинцы», то есть бывшие служащие принадлежавшей Советскому Союзу Китайско-Восточной железной дороги, которые после ее продажи в 1935 г. Японии переехали в СССР [75] До возвращения на историческую родину большинство из них проживало в г. Харбине, где размещалась администрация дороги и ее основные службы, отсюда и название — «харбинцы».
.
Что касается корейцев, то в стране их насчитывалось около двухсот тысяч человек, и проживали они в основном на территории Дальневосточного края (ДВК), граничащего с находящимися под японской оккупацией Кореей и Маньчжурией. Компактное их размещение в районе потенциального военного конфликта и навело, вероятно, на мысль использовать в данном случае такую своеобразную форму репрессий, как массовое выселение по национальному признаку.
21 августа 1937 г. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР принимают совместное постановление «О корейцах», в котором «в целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край» региональному управлению НКВД предписывалось немедленно приступить к выселению из пограничных районов корейского населения, которое предлагалось перевезти в малонаселенные районы Казахстана и Узбекистана. Операцию приказано было начать немедленно и завершить не позднее 1 января следующего года.
Понимая, что разместить на новом месте такое огромное количество людей будет нелегко, Сталин дал указание не чинить препятствий тем корейцам, которые, не желая переезжать, захотят перейти границу и попасть в Корею или Маньчжурию. Управлению НКВД по ДВК было предложено допустить упрощенный переход границы соответствующими лицами, правда, на местах такие намерения зачастую рассматривались как враждебные, и для многих корейцев их попытка покинуть СССР закончилась ГУЛАГом.
Немедленное начало эвакуации, о котором шла речь в постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР, местным властям удалось немного оттянуть, иначе погиб бы весь урожай риса на обширных плантациях, так что первые эшелоны с корейцами отправились в путь лишь 9 сентября, когда основная часть урожая была уже собрана и сдана на заготовительные пункты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: