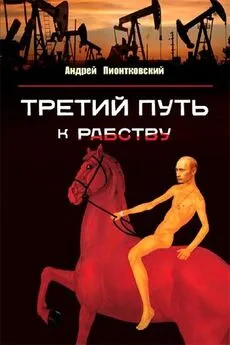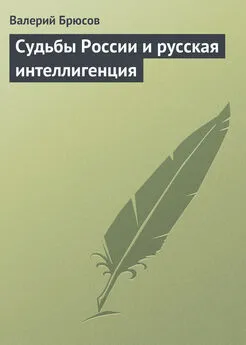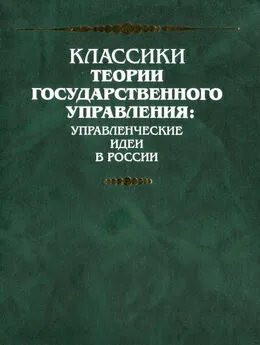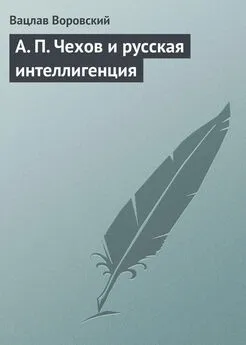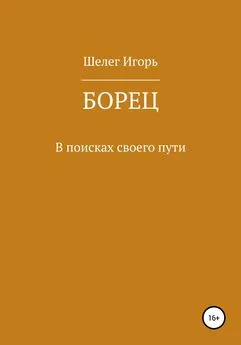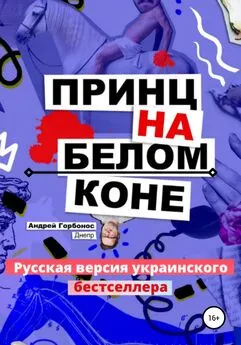Андрей Квакин - Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920-1930 годов в поисках Третьего Пути
- Название:Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920-1930 годов в поисках Третьего Пути
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-2193-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Квакин - Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920-1930 годов в поисках Третьего Пути краткое содержание
Книга посвящена анализу малоизученной деятельности ряда российских политических деятелей, философов и писателей в 1920–1930 годах (в основном в эмиграции), которые, осмысливая результаты Гражданской войны в России, пытались найти так называемый Третий Путь развития России – «между белыми и красными».
Монография состоит из трех частей и подробно рассматривает эти поиски в русле «сменовеховства», «нововеховства», «национал-большевизма» и других сходных течений. В ней впервые вводятся в научный оборот многие документы, в том числе из архива Гуверовского института войны, мира и революции (США).
Эта книга, в серии пятьдесят восьмая по счету, входит в проект издательства «Центрполиграф» под общим названием «Россия забытая и неизвестная».
Как и вся серия, она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, ученых, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.
Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920-1930 годов в поисках Третьего Пути - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первая в том, что, либо по тактическим соображениям, т. е. из желания как можно скорее завести близкие отношения с большевизмом, примириться с ним, а, может быть, даже и получить его поддержку, ибо по законам психологического равновесия движение новых вех вместо того, чтобы неприкосновенно выставлять себя как новый вид борьбы с большевизмом, вырисовывается как примирение с ним. По моему мнению, вехизм должен был бы соответствовать тому, что в старое время представлял русский либерализм. Борьба велась между старым режимом и революцией. Либерализм был движением, которое должно было угрозой революции побуждать старый режим идти на уступки; он должен был воплощать те идеи, которые одни могли остановить революцию и отсутствие которых революцию питало и укрепляло. Но, идя по одной дороге с революцией или, по крайней мере, борясь с ней, либерализм должен был сам от себя наносить удары старому режиму. Только поскольку он это делал, он имел право осуждать революцию. Вехизм должен был объявить большевизму войну не на живот, а на смерть. Он мог оправдывать отдельных людей и объяснять эксцессы переходного периода их неизбежностью; но он должен был бороться с ними, с их продолжением, с возведением их в систему управления; он должен был резко отречься от знакомого принципа: сначала успокоение, а затем реформы; только делая это, борясь с большевизмом, апеллируя к тому, что в нем осталось разумного и честного, только делая это, он мог осуждать эмиграцию. Вместо этого вехи уже усвоили принцип: [пропуск в тексте. – А. К. ] иными словами, сначала успокоение, а потом реформы. Вместо того чтобы, идя из лагеря типичных белых антибольшевиков, сделаться антибольшевиками новой формации, вехисты становятся апологетами большевизма; так, когда Лев Тихомиров в свое время разочаровался в революции, то он стал не либералом, а перешел в «Московские ведомости». Второй недостаток вехистов – это то, что они стали обрастать всякой дрянью, ибо это течение представляет слишком много соблазна для продажных людей, которые к ним уже примазываются и пристраиваются. В первой книжке журнала появилась уже статья Носкова; плохое начало, хотя вполне естественное и неизбежное. Но стоит им дальше пойти по этой дорожке, как все это движение потеряет весь налет идеализма, станет простой спекуляцией, собранием новых продажных людей, которые продаются новому хозяину. Но пока это не совершилось и не отделено то, что в этом течении было здорового, вехизм представляется настолько оригинальным, что те, кто с ним знакомится, невольно поддаются его влиянию…» [408]
При этом письме Маклаков подтвердил уже высказанное ранее суждение о том, что изменение режима произойдет в результате внутрироссийских процессов: «Мое убеждение, что спасение придет не из эмиграции, а из среды большевизма; что совершается теперь, если даже считать, что оно и неискренне, показывает, по какой дорожке пойдет эволюция большевизма, где принуждены будут искать спасения. Эта дорога все-таки правильная и единственная задача, которая стоит перед нами – это чтобы не ошибиться временем, когда можно будет раскрыть карты и выступить на помощь одной стороны во внутренней борьбе среди большевизма. Пока я не считаю эту борьбу дошедшей до того момента, когда можно не опасаться, что появление третьего заставит враждующие стороны соединиться вместе против этого третьего; так появление Корнилова когда-то бросило Керенского в объятия Троцкого, так и сейчас преждевременное появление «Европы», т. е. буржуазии, может заделать щель, которая в большевизии уже намечается. Нужно пока ждать и действовать очень дискретно. Что в этом отношении я не ошибаюсь, доказывают последние сведения о переговорах, которые ведутся с правым крылом большевизма…
И единственное, с чем нужно бороться и чего нужно опасаться – это поддержки настоящего равновесия между правыми и левыми элементами большевизма, т. е. того состояния, которое устоять не может, ибо совмещает в себе недостатки обеих идеологий – и коммунистической, и буржуазной, не имея ни одного из их преимуществ. Это состояние неустойчивости, как всякое ненормальное положение, конечно, преходяще; но обращение к Западу от имени большевизма в тех условиях, в которых оно сейчас происходит, есть обращение именно этого неустойчивого положения и просьба поддержать именно его; этого никакими путями мы допускать не должны. С этой точки зрения, позиция «Вех», если она не изменится, может оказаться и фальшивой, и вредной» [409].
В ответном письме от 14 декабря 1921 г. Бахметев дал развернутые ответы по всему комплексу вопросов, поднятых в письмах Маклакова, в том числе и по отношению «Смены вех». В первую очередь, интересны его размышления по поводу политической позиции посла в США: «Я не принадлежу ни к какой партии, ни к какой определенной группе. Я настолько беспартиен и терпим, что иногда даже упрекаю себя в отсутствии темперамента и безразличии…
На самом деле, работа посольства ни разу не сошла с пути надпартийности и широко государственного национализма, да и в отношении русских вопросов трудно сказать, что лево и что право. Я, конечно, очень левый с точки зрения всех тех, кто мечтает о какой-либо реставрации и кто еще придерживается мыслей и надежд, что Россию можно устроить и восстановить организованным усилием пришедшей извне группы. Я твердо верю в народовластие, а не в силу абстрактного принципа, а на основании опыта последних лет, своего знакомства с различными частями России и с народной жизнью в различных ее проявлениях, а также, может быть, благодаря совокупности впечатлений и навыков, которые я получил, живя четыре года в Америке, по существу, самой демократической и самой консервативной стране. Мой политический демократизм или, вернее, твердое представление и убеждение в том, что Россия восстановится благодаря глубоким внутренним процессам в ней самой, сочетается с большой твердостью, прежде всего, в вопросах экономических. Я не верю в социализм и даже в очень относительном свете рассматриваю те течения, которые называют кооперативной государственностью, течения, которые так диспропорционально выдвинулись в связи с ростом кооперативного движения и которыми так много людей чрезмерно увлекаются. Я Вам неоднократно высказывал, что будущую Россию я рассматриваю как страну с остро собственническим основанием и что развитие ее ресурсов связывается у меня с представлением о безудержном и диком капитализме, капитализме, который войдет в более цивилизованные и сдержанные формы лишь на последующих этапах своего развития, – вероятно, уже не в нашем поколении.
Не мало удовлетворения вызовет в Вас еще признание, что я, по своему характеру и склонностям, большой сторонник твердой и инициативной власти. Что это – правое или левое, я не знаю; обыкновенно твердая власть у нас связывается с правыми представлениями; на самом же деле я всегда придерживался убеждения, что только власть, опирающаяся на поддержку населения и убежденная в своей правоте и прочности, может и должна дерзать и не бояться» [410].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: