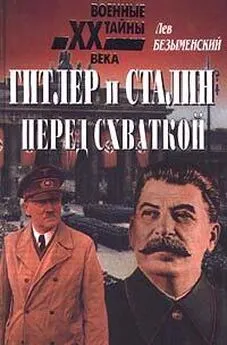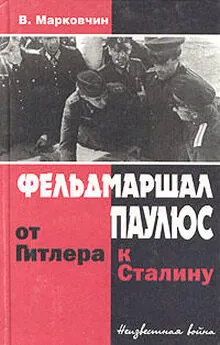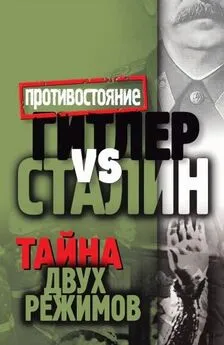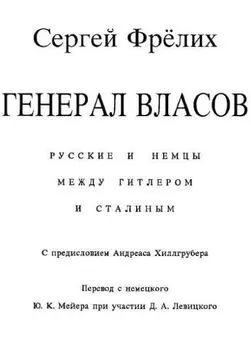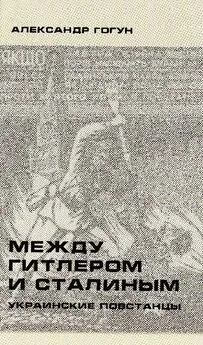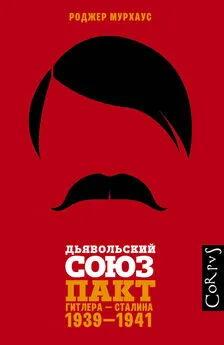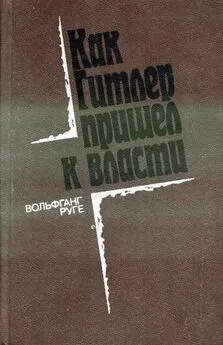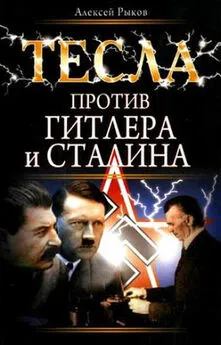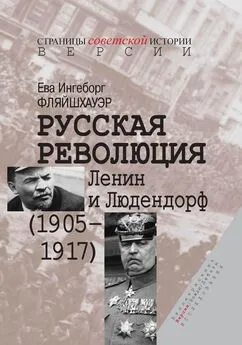Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
- Название:Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ингеборг Фляйшхауэр - Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939 краткое содержание
Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ГЕРМАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИИ ПОСЛЕ МЮНХЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Иностранные специалисты по вопросам германской внешней политики полагали, что «вторая мировая война должна была бы начаться [113]1 октября 1938 г.» . Непредвзятым наблюдателям в Германии, следившим за поведением своего правительства во время обострения так называемого судетского кризиса и имевшим точную информацию о внешнеполитической подоплеке, было «ясно, что Г(итлер) с крайним легкомыслием стремился к войне». В критические дни (27 — 28 сентября 1938 г.) «положение представлялось почти безнадежным» [114]. Рейхсканцлер Гитлер и имперский министр иностранных дел фон Риббентроп продемонстрировали немецкому народу и всему миру свою решимость превратить кризис, во многом искусственно вызванный германской стороной вокруг немецкого населения Судетской области, в вооруженный конфликт. После присоединения 13 января 1935 г. Саарской области на западе и аншлюса Австрии 13 марта 1938 г. на юге «третьего рейха» в повестке дня охваченного манией экспансионизма германского канцлера значился захват Чехословакии на востоке «третьего рейха».
Пропагандистская шумиха относительно вооруженной до зубов Чехословакии, игравшей роль советского «авианосца» в Центральной Европе, показала внимательным наблюдателям, что мнимая угроза проживающему в Судетах немецкому меньшинству и выдвигаемое требование права на самоопределение представляют собой лишь предлог для военно-политической экспансии и что целью активного раздувания кризиса является овладение всей Чехословакией. Тайный приказ к уничтожению Чехословакии, изданный Гитлером 30 мая 1938 г., со всей наглядностью продемонстрировал это военным и другим осведомленным лицам. Но воинственные намерения в отношении Чехословакии были сопряжены с опасностью нарушения сложившегося в Центральной Европе равновесия и могли вызвать автоматическое срабатывание механизма союзнических обязательств. Любое нападение на Чехословацкую Республику, как бы оно ни маскировалось в пропагандистском и военном плане, по всей вероятности, привело бы в действие существовавшее соглашение о взаимной помощи. Франция оказала бы помощь Чехословакии, Англия последовала бы за Францией и вступила бы в войну с Германией, а после выступления Франции помочь восточноевропейскому славянскому государству был обязан Советский Союз. Вырисовывалась чрезвычайно опасная ситуация войны на два фронта.
В то время как в свете знаний военных реальностей было весьма неопределенно, смогут ли вообще германские войска, а если смогут, то когда и какой ценой, овладеть Чехословакией, располагавшей мощными пограничными укреплениями [115], не вызывало сомнений, что в войне на два или более фронтов вооруженные силы Германии рано или поздно будут разбиты, причем даже и в том случае, если СССР вступится за маленький братский славянский народ не более чем символическими силами.
Начальник генерального штаба германских сухопутных войск Людвиг Бек, сознавая подобные перспективы и соблюдая моральный и военный кодекс прусской традиции, 18 августа 1938 г. подал в отставку в знак протеста против запланированной захватнической войны с ее неизбежными последствиями [116]. Ни один немецкий генерал не последовал его примеру. Но пожалуй, впервые после стабилизации гитлеровского режима заинтересованность в собственной защите, вызванная непосредственной угрозой, нависшей над Германией из-за безответственной игры ва-банк, свела вместе горстку людей, занимавших военные и гражданские ключевые посты и убежденных в том, что только заговор может спасти страну [117]. Их планы остались теорией. «Если бы нас 28-го действительно ввергли в войну, — сообщал генерал фон Клейст бывшему послу Ульриху фон Хасселю через несколько дней после неожиданного мирного окончания кризиса, — то для спасения Германии от катастрофы у военных, по сути, оставалось лишь одно средство: арестовать главных политиков» [118].
Между тем до «сентябрьского заговора» [119]дело не дошло. Помимо того что внешнеполитическое развитие ограничило способность к единодушному действию, решающее значение имели колебания военных по коренным вопросам. Поэтому единственная серьезная попытка не допустить втягивания Германии в новую войну с непредсказуемыми последствиями для всего мира, по признанию оппозиционных сил в министерстве иностранных дел, «к несчастью для Германии и всего мира» [120], не реализовалась.
Вместо этого с подписанием 1 октября 1938 г. Мюнхенского соглашения, по наблюдениям Ульриха фон Хасселя, «чувство огромного облегчения... в связи с предотвращенной войной охватило весь народ», в том числе и значительную часть (в глубине души) оппозиционной элиты. Благоприятный для выступления момент остался неиспользованным, и ему никогда не будет суждено повториться.
Это граничившее с эйфорией чувство облегчения, вызванное позицией великих держав, их уступчивостью, сопровождаемой серьезными предупреждениями Советского правительства, сохранялось недолго. Уже через несколько дней «события 27 и 28 сентября... стали все яснее вырисовываться как момент величайшей опасности. Нами (то есть правительством Гитлера и Риббентропа. — И.Ф.) была затеяна прямо-таки преступная по своему легкомыслию игра». На смену эйфории скоро пришли отрезвление и новые, более глубокие опасения, «что Г(итлер)... скоро опять проявит агрессивность» на международной арене. Как известно, Гитлер не скрывал, «что он не примирился с вмешательством государств и что было бы лучше, если бы он начал войну». Канцлер неоднократно высказывал свое неудовольствие исходом кризиса и выражал «неизменную убежденность в том, что Англия и Франция, сознавая собственную слабость, никогда бы не выступили. Но если бы они это сделали, то все равно победа была бы за нами, главным образом потому, что наша воздушная мощь в два раза превосходит объединенную франко-английскую и даже русскую!». Его министр иностранных дел предстал перед подчиненными весьма «раздосадованным... поскольку дело не дошло до применения силы». Эти и другие наблюдения неизбежно вызывали в информированных кругах Берлина, озабоченных будущим развитием, «ощущение, что Гитлер даст лишь короткую передышку. Он не мог иначе, как подготовить новый удар» [121].
В действительности и через десять месяцев Гитлер все еще испытывал негодование по поводу того, что политика умиротворения западных держав и особенно уступчивость Чемберлена в Мюнхене разрушили все его наступательные планы. В августе 1939 г. он спровоцировал еще один опасный международный кризис вокруг Польши, окончательно нацеленный на войну. Правда, его противники поменялись ролями: теперь «миротворцем» выступало Советское правительство, а угроза исходила от западных государств. В речи перед германским главным командованием, произнесенной утром 22 августа 1939 г. после, по его словам, установления «личного контакта со Сталиным» [122], Гитлер в Оберзальцберге [123]заявил, что боится только одного: что «в последний момент какая-нибудь сволочь (реверанс в сторону Невилла Чемберлена. — И.Ф.) предложит план посредничества».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: