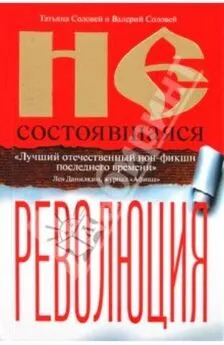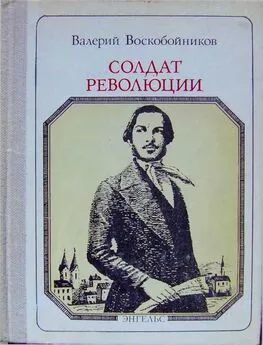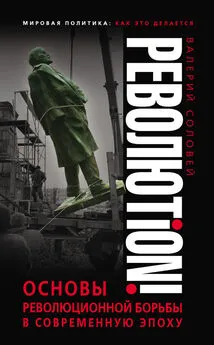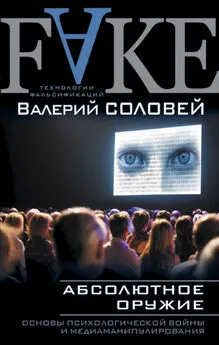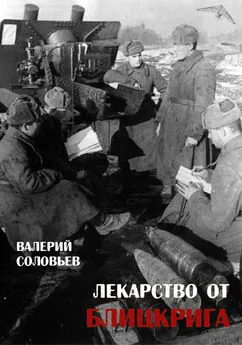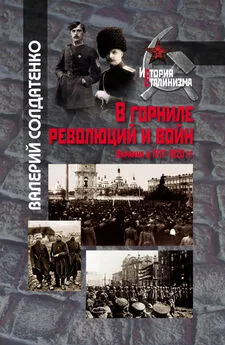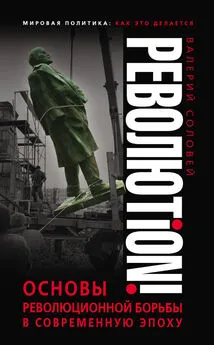Валерий Соловей - Несостоявшаяся революция
- Название:Несостоявшаяся революция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Соловей - Несостоявшаяся революция краткое содержание
Несостоявшаяся революция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
130 Пайпс Ричард. Струве: левый либерал. 1870-1905. М., 2001. С. 31.
Во многом они вызваны тем, что националистический дискурс в лабораторно чистом виде встречается не столь уж часто. Значительно чаще его элементы входят в состав синкретических идеологических мировоззрений, не поддающихся однозначной оценке. Поэтому отнесение той или иной исторической фигуры к определенному идеологическому течению определяется не только содержанием ее собственного мировоззрения, но также исходной методологической позицией исследователя и выбором объекта исследования. В одном ракурсе те или иные личности могут оказаться националистами, а в другом — консерваторами или либералами. Например, Петр Струве вошел в историю одним из основоположников русского кадетского либерализма или, другими словами, либерализма западного образца. Однако Ричард Пайпс, автор капитального исследования о Струве, утверждал, что национализм был «одним из незыблемых столпов его интеллектуальной биографии, можно сказать, ее константой, тогда как в отношении остального его политическая и социальная точки зрения постепенно менялись»130. В данном случае противоречие легко снимается определением Струве как либерального националиста. Но хотя гибкие определения создают более нюансированную и изощренную картину, они не отменяют необходимость идеологической типо-логизации как таковой.
Сразу оговоримся, что не ставили задачей разработку исчерпывающей идеологической классификации или хотя бы простого перечисления всех тех исторических фигур, которых можно отнести к русскому национализму. Вместе с тем, не ограничиваясь одним лишь указанием на существование интеллектуальной неопределенности, предлагаем для обсуждения два критерия, которые помогут очертить «плавающие» границы русского националистического дискурса. Первый критерий: признание самостоятельного значения русской этничности или, в терминологии той эпохи, принципа «народности». При этом не имеет значения, какими атрибутами наделялась «народность» и как она описывалась, принципиально само ее постулирование в качестве самостоятельной сущности.
Второй критерий: решение проблемы отношения империи и русского народа в пользу этнизации имперской политии. Здесь опять же важен не сам факт проблематизации подобного отношения, а именно принципиальный характер его решения — этнизация — вне зависимости от предлагавшихся конкретно-исторических вариантов. Обращаем внимание, что оба критерия вытекают из общеразделяемого современной наукой определения национализма. Хотя даже в этом случае многозначность идеологических определений сохранится, она уменьшится до приемлемых величин.
Так, применение этих критериев исключает отнесение к русскому национализму масштабной фигуры Константина Леонтьева с его аристократическим иерархизмом, последовательным этатизмом и игнорированием русской этничности. Национализм он небезосновательно считал идеей западной и даже либеральной, то есть противоречащей исконным русским основаниям, а к славянофильству относился с легким презрением, как к демократической, модернистской и потому потенциально опасной идеологии. Тем не менее, выглядящее внешне логичным отнесение Леонтьева к консерваторам будет неполным без очень важного уточнения.
Усматривая единственно возможное будущее для России на путях государственного социализма, он тем самым оказывался в оппозиции к наличествующему российскому бытию. В функциональном смысле Леонтьев был не консерватором, а скорее потенциальным революционером. В данном случае уместна аналогия с Петром Чаадаевым. Хотя в содержательном и ценностном отношении связь последнего с «широко понимаемым общеевропейским консерватизмом... не может подвергаться сомнению», «его идеи не укрепляли российского статус-кво, отрицали существующую действительность и играли по отношению к ней деструктивную роль»131. Весьма характерно и крайне отрицательное отношение самодержавия к подобной разновидности консерватизма.
Более сложен случай Николая Данилевского. В отличие от славянофилов, придававших первостепенное значение религиозному атрибутированию этничности, для автора «России и Европы» этническая близость значила больше конфессиональной. В духе культурных веяний эпохи Данилевский характеризовал культурно-исторические типы посредством натуралистической метафоры, уподобляя их биологическим организмам. Высоко ценивший технологические и научные достижения западной цивилизации, он в то же время отвергал ее политические ценности, возлагая свои упования на некий народнический аграрный социализм. В этом смысле Данилевский признавал важность русской этничности или, по крайней мере, учитывал ее.
В то же время он не был мессианистом в славянофильском духе. Данилевский верил во всемирно-историческую миссию России, но в его трактовке она была ядром лишь одного из культурно-исторических типов. Хотя этот тип имел наибольший потенциал развития, вопрос о его реализации оставался открытым.
На первый взгляд, Данилевский был чужд самой постановке вопроса этнизации политии. Думаем, однако, она присутствовала у него (равным образом, как и у панславистов) в снятом виде и выносилась вовне. Этнизация Российской империи выглядела неизбежным и закономерным результатом оформления славяно-русского культурного исторического типа и агрессивной политики по образцу немецкой унификации. Внешнеполитическая доктрина панславизма носила, по существу, революционный характер, ибо была направлена в поддержку мятежного национализма против легитимного монархизма. По практическим и идеологическим соображениям подобная политика была категорически неприемлема для Российской империи.
131 Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная утопия в работах Анджея Валицкого. Реферативный сборник / Сост. К. В. Ду-шенко. В 2-х вып. Вып. 1. М., 1991. С.61.
В том, что касается внутренней политики, панславизму был присущ заметный демократический аспект, но с несравненно более выраженным этнократическим оттенком, чем у ранних славянофилов. В этом смысле очень показателен предложенный министром внутренних дел графом Николаем Игнатьевым проект реанимации Земского
Собора (1882). В гипотетическом совещательном органе обеспечивался русский приоритет, в то же время ему отводилась пусть скромная, но все же некоторая роль в легитимации власти. Это был причудливый симбиоз архаичной славянофильской утопии с модернистским принципом национальности.
Так или иначе, олицетворяемое панславизмом «неосознанное стремление к нединастическому национализму»132 было вызовом принципу легитимизма и социальным устоям империи. По счастью для последней, панславистское влияние ограничивалось преимущественно образованными слоями общества, не задевая живые чувства массы простых русских, которым вряд ли была близка идея имперской экспансии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: