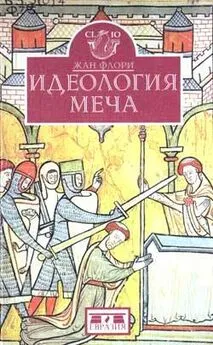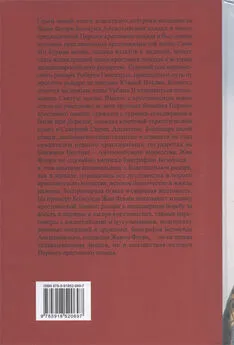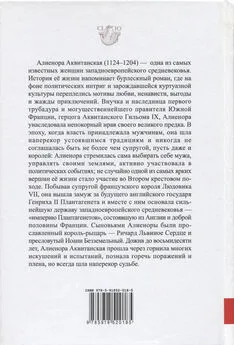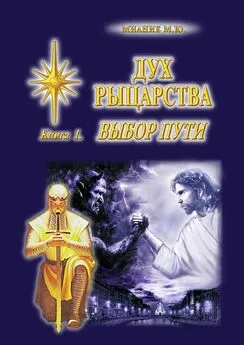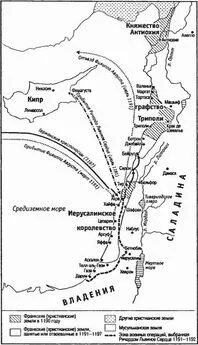Жан Флори - Идеология меча. Предистория рыцарства
- Название:Идеология меча. Предистория рыцарства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Флори - Идеология меча. Предистория рыцарства краткое содержание
Идеология меча. Предистория рыцарства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, в начале V века в рамках военной службы существует два вида верности. Ведь после Константина империя стала христианской. Отныне обе власти, божественная и земная, выглядят более совместимыми. Поэтому христианские писатели начинают искать в Библии аргументы, которые показали бы, что христианин должен участвовать в поддержании закона и порядка. Не найдя почти ничего определенного на этот счет в Новом Завете, они обратились к Ветхому, который часто оправдывает применение вооруженной силы. Одновременно решительно меняется толкование некоторых слов Иисуса в пользу более высокой оценки государственной власти. Так произошло со знаменитым изречением «Отдайте кесарю кесарево, а Богу Богово», с которым связано столько разных интерпретаций с той эпохи и до наших дней. [31] О разных толкованиях этого изречения Иисуса см. Flori J. «Rendez a Cesar» <���…> //Conscience et liberte, 9.
Однако не все христиане сразу же пришли в восторг оттого, что смена религии императором должна повлечь за собой радикальную перемену в их отношении к божьему повелению не убивать. В восточной части империи, которая непосредственно нас не касается, мы все-таки упомянем три очень важных свидетельства стойкости этой позиции: это «Каноны Ипполита», составленные в Египте в середине IV в., эфиопская версия «Апостольского предания» Ипполита и «Завет Господа нашего» – то и другое датируется V веком. Три этих текста очень ясно говорят об отношении к армии как минимум части церковников.
Необходимо, – говорится, например, в последнем тексте, – учить солдата-нехристианина не красть, не убивать, не вымогать богатств силой, как учит Иоанн Креститель. Если солдат желает принять крещение, он должен отказаться от военной службы. И напротив, «если неофит или верный соглашается стать солдатом, пусть он изменит мнение или же будет отвержен». [32] «Завещание Господа нашего», II, 2 (Testamentum Domini Nostri Iesu Christi. Mainz: 1. E. Rahmand, 1899, p. 114. Перевод см.: Nau F. La version syriaque de I'octateucjue de Clement. Paris, 1913.). Два других текста менее категоричны: так, «Каноны Ипполита» (Canones sancti Hippolyti e codicibus romanis, ed. В. Haneberg, 1870, canon 14) утверждают только, что ни один христианин не должен становиться солдатом, если его не принуждают к этому. В последнем случае он должен будет воздерживаться от пролития крови. Если же это всетаки произойдет, его следует не допускать к святому причастию до тех пор, пока он не приведет достаточных доказательств раскаяния. См. перевод этого текста у Орню: Hornus J. M. Op. tit., p. 124–125. Тот же смысл имеет эфиопский перевод «Апостольского предания», каноны 27 и 28, изданный в переводе на немецкий Дюнсингом: Duensing H. Der Aethiopische Text der Kirchenordnung des Hippolyt. Gottingen, 1946.
То есть даже в середине V века многие христиане держались в стороне от армии либо несли армейскую службу лишь при условии, что им не надо будет убивать врага.
Возможно, та же ситуация была и на Западе. Тогда стал бы понятен смысл загадочного 3го канона Арльского собора, который в 314 г., сразу после знаменитого «обращения» Константина, заявляет: «De his qui arma projeciunt in pace, placuit abstineri eos a communione» [33] Каноны Арльского собора в: Mansi, 2, col. 469–477; тот же текст в изд.: Labbe Ph. Concilia 1,1427.
(Тех, кто бросает оружие в мирное время, решено не допускать к причастию).
Этот канон имеет в виду – сегодня это признается всеми – тех, кто бросает оружие в знак отказа от военной службы, а не тех, кто нарушает мир, бросая свое оружие в другого. Но тогда не совсем понятны слова in pace. Зачем бы понадобилось такое уточнение, кроме как (что хорошо понял уже А. Секретан) чтобы подчеркнуть: тогда у христианина уже не было для этого религиозных оснований, ведь в мирное время он служил в армии не затем, чтобы проливать кровь [34] Secretan H. Le christianisme des premiers siecles et le service militaire //Revue de theologie et de philosophie, 2, 1914, p. 364.
? Но согласиться с этим – значит признать, что в военное время отказ от службы по религиозным соображениям полностью сохранял для христиан свое значение. Значит, речь идет о некоем компромиссе: «солдат, служащий в армии в мирное время, не только может там оставаться, но и должен это делать, дабы не вызывать скандала». [35] Hornus J. M. Op. tit., p. 130. Несмотря на полемичный и несколько пристрастный характер работ этого автора, его анализ Арльского собора кажется нам неопровержимым. По всем этим темам см. также хорошее исследование Ф. Кардини: Cardini F. Alle radici della cavalleria medievale. Firenze, 1982, p. 173–213, особенно p. 200 ss. (Есть русский перевод: Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М.: Прогресс, 1987. – Перев.)
II. Изменение отношения при Константине
Вскоре, однако, необходимость поддержания порядка и обеспечения безопасности христианства и империи, отныне слившихся воедино, побудила христианских писателей изменить свою точку зрения на войну и, следовательно, на солдат. Война как таковая продолжает, конечно, считаться злом, но злом, к которому приходится прибегать во избежание еще большего несчастья. Значит, есть дурные войны и хорошие битвы; а если христиан, вновь надевающих cingulum militare (воинский пояс) после отказа от него, все еще отлучают от церкви, как предписывал 12й канон Никейского собора, – то не за военную службу саму по себе, а за неверный выбор. На самом деле этот декрет имеет в виду христиан, которые после резкой смены Лицинием религиозных взглядов покинули лагерь отступника и теперь намеревались вернуться на службу лидеру, считавшемуся врагом христиан в качестве противника Константина, их «официального» покровителя. [36] Этот текст, плохо понятый А. Вандерполем: Vanderpol A. La doctrine scolastique du droit de guerre. Paris, 1925, p. 88–196, был лучше помещен в исторический контекст Харнаком: Harnack A. Op. cit., S. 91, и Каду: Cadoux J. Op. cit., p. 260.
По мере вторжений варваров эта позиция укреплялась. Эволюцию общехристианского менталитета в отношении войны хорошо выражает святой Августин, развивающий в своих работах двоякую идею: с одной стороны, обязательного неприятия несправедливой войны, этого бича человечества, но с другой – признания справедливой войны. Во имя первой идеи он заявляет, например, что следует не заключать мир ради войны, а вести войну ради мира [37] Augustin. Epitre 189, P. L., 33, col. 85556.
. В сочинении «О граде Божьем» он сожалеет о войне, подчеркивая: кто может размышлять о ней или терпеть ее без душевной боли, воистину утратил человеческое чувство [38] Augustin. De Civitate Dei, XIX, 7. Paris: B. Dombart et A. Kalb, 1955. (Последнее русское издание: Блаженный Августин. О Граде Божием. Спб.: Алетейя – Киев: ЦИММ Пресс, 1998. – Перев.) См. также его Epistola, 47, 5, P. L., 33,2, col. 186.
. Но в то же время, утверждая вторую идею, он уточняет: кто убивает врага, тот в принципе лишь слуга закона, отвечающий насилием на насилие. [39] Augustin. De Civitate Dei, I, 21 et 26.
Это новое отношение к войне вызвано также разными политическими и социальными факторами. Во времена Тертуллиана или Оригена христианин мог строго следовать букве Десяти заповедей, как и духу Евангелия. Ведь для комплектования армии, поддерживавшей Pax Romana на границах, находились другие желающие. Экономическое, социальное и политическое положение поздней Империи и даже религиозная ситуация в ней этого уже не позволяет: христиан становится все больше. До тех пор, отмечает Ж. Даниэлу, христианин мог «полностью отдавать себя своей в какой-то мере священнической склонности», то есть молиться за империю, за мир, за народ. [40] Cp. Danielou J. Nouvelle histoire de l'Eglise. Paris, 1963,1.1, p. 364.
Интервал:
Закладка: