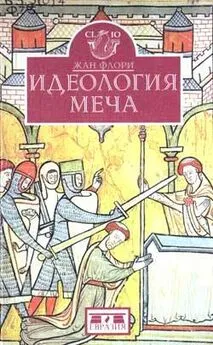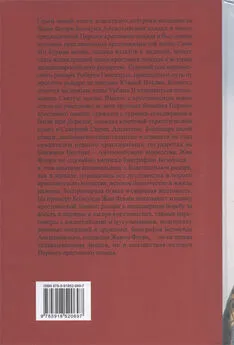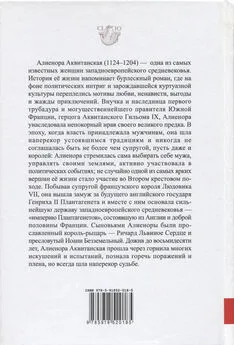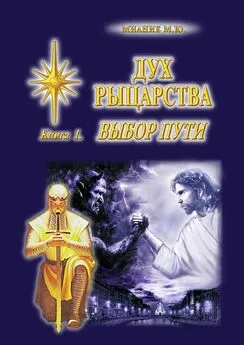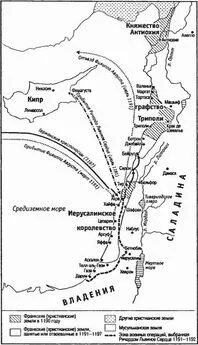Жан Флори - Идеология меча. Предистория рыцарства
- Название:Идеология меча. Предистория рыцарства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1999
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Флори - Идеология меча. Предистория рыцарства краткое содержание
Идеология меча. Предистория рыцарства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отныне возникает новая идеологическая концепция, намеченная св. Августином и развитая его последователями: война бывает справедливой, и христианин может без угрызений совести участвовать в ней. Более того: если в первые века христианства все христиане считали своим призванием быть священниками и «ненасильниками», то Августин становится основоположником идеологии, строго разделяющей функции. Одним надлежит бороться молитвой против демонов, в то время как другие сражаются оружием против варваров [41] Alii ergo pro vobis orando pugnant contra invisibiles inimicos; vos pro eis pugnando laboratis contra visibiles barbaros (Итак, иные, молясь, сражаются за вас с невидимыми врагами; вы стараетесь для них, сражаясь с видимыми варварами). Epistola 189, P. L., 33, col. 855. О проблеме войны у святого Августина см. документы и комментарии у П. Брауна: Brown P. Religion and Society in the Age of Saint Augustin. London, 1972. См. также Monceaux P. Saint Augustin et la guerre. Op. cit.
. Это настоящее разделение труда устанавливает, конечно, иерархию функций, ставящую священников выше мирян: ведь духовная деятельность важнее материальной, как душа, по тогдашней антропологической концепции, важнее тела.
Следовательно, повышение значимости воинского ремесла остается относительным. Впрочем, св. Августину приходится взяться за перо ради борьбы с еще господствующим предубеждением против данного государства: «Noli existimare neminem Deo placere posse, qui in armis bellicis militat» (Нельзя считать, что всякий, служащий при боевом оружии, неугоден Богу) – говорит он в том же послании, опираясь на библейские примеры: Иисус приходил к сотнику, Петр был приглашен к Корнилию, Иоанн Креститель призывал солдат довольствоваться своим жалованьем. [42] Non eos utique sub armis militare prohibuit; auibus suum stipendium sufficere debere praecepit (Он не запретил вам нести вооруженную службу, но предписал удовлетворяться своим жалованьем). Ibid., col. 855. В ту же эпоху, в начале V века, епископ Максим Туринский формулирует иоанновский принцип в выражениях, которые позже используют многие средневековые комментаторы: Non enim militare delictum est, sed propter preadam militare peccatum (Ибо военная служба не преступление, но грабеж на военной службе – грех). Maxime de Turin. Homelie 114,1, P. L. 57, col. 518.
Таким образом, не militia как таковая достойна осуждения. Все зависит от того, в какой форме ее исполняют. Она имеет дурной и дьявольский характер, если используется для угнетения и насилия. Тогда она становится malitia (злобой, коварством). Это, насколько нам известно, первый пример игры слов militia – malitia, которую позже мы так часто, несколько в ином смысле, будем встречать у Бернара Клервоского и Иоанна Солсберийского [43] Non enim beneficere prohibet militia, sed malitia (Творить добро препятствует не военная служба, но malitia (злоба, коварство)). Sermo 302,15, P. L. 38, col. 1391.
. Если же militia посвящена борьбе за справедливость, это дело достойное. И святой Августин, правда, не создавая на этой основе теорию, уточняет, что такое справедливая война: она состоит в защите родины, ее граждан, собственности [44] De Civitate Dei, III, 10, P. L. 41, col. 85.
. В комментарии к Пятикнижию он высказывается еще определенней: справедливая война есть оборонительная война, предпринятая, чтобы покарать злодеев, война ради защиты и восстановления частных прав, находящихся под угрозой или нарушенных. [45] In Pentat, VI, 10, P. L. 34, col. 781.
Итак, вклад св. Августина в разработку теории справедливой войны и переоценку функции воинов представляется значительным. Немного позже его дело продолжил на Востоке Исидор Пелусиотский, установивший различие, впоследствии ставшее классическим, между частными убийствами, порочными и преступными, и человекоубийством на справедливой войне, в котором нет вины [46] Isidore de Peluse. Epitre 4, P. G. 78, col. 200.
. Св. Августин с несколько меньшей определенностью уже развивал эти темы. [47] Augustin. Epistola 189, 6; op. cit., De Civitate Dei, XIX, 12 et Epistola 47, 5 P. L. 32, 2, col. 186. Это различие будет также использовано папой Львом Великим: Leon le Grand. Epistola 167, 12, P. L. 54, col. 12067, прежде чем стать общим местом в средневековом мышлении.
Еще значительнее представляется нам вклад св. Августина в создание пропасти, которую после него углубляют все больше и больше, – между мирянами и milites Christi, что означает отныне служителей Бога в клерикальном смысле слова, а не «обычных» христиан, живущих в миру. Milites christi, как и войсковые milites, носят свой пояс – символ служения. Епископ Максим Туринский скажет об этом в начале V века в проповеди, приписываемой святому Августину по ошибке, но довольно точно излагающей его мысль [48] Pseudo Augustin. Sermo 82, P. L. 39, col. 1905. Идентичный текст, приписываемый Максиму Туринскому: Maxime de Turin. Homelia 114, P. L. 57, col. 520.
. Они сражаются верой с невидимым врагом, тогда как мирские солдаты бьются мечом и льют кровь, которой milites Christi не вправе проливать. Это различие ведет к созданию иерархической и жреческой концепции церкви: над массой христиан, которым в некоторых обстоятельствах, определяемых церковью, лить кровь дозволяется, если не рекомендуется, стоит небольшой класс «совершенных» христиан – клир и монахи, на которых переносятся все требования христианской морали. Священники не смеют проливать кровь: канонические законы соборов отныне будут неустанно об этом напоминать, с начала V века и до знаменитого декрета Николая I. Так, Леридский собор в 524 г. осудит на два года покаяния клириков, которые, находясь в осажденном городе, пролили кровь в силу необходимости [49] Текст, приведенный и прокомментированный А. Вандерполем: Vanderpol A. La doctrine scolastique du droit de guerre. Paris, 1925, p. 118.
. В 742 г. декрет Карломана запрещает клирикам носить оружие и вступать в армию; это запрет будет повторен в 757 г., в 769 г. и в капитулярии Карла Лысого, позже, в 861 г., утвержденном Николаем I [50] См. декрет Карломана: с. 2, M. G. Н. Capitularia Regum Francorum I, 25; Decretum Vermeriense, с 16, M. G. H. Capitularia I, 39 и 1й капитулярий Карла Лысого, уточняющий даже: «ut sacerdotes neque christianorum neque paganorum sanguinem fundant» (дабы священники не проливали ни христианской, ни языческой крови). М. G. H. Epistolae Aevi Karolini VI, 613.
. Дело идет, таким образом, к двум видам сакрализации:
– сакрализации клира, который стоит выше обычного христианина и подчиняется уже совсем иным нравственным законам, более требовательным к нему, чем к простым смертным;
– сакрализации крови, которую можно было бы вместе с Ж. ле Гоффом расценить как «табу» [51] Le Goff, J. Metiers licites et metiers illicites / /Pour un autre Moyen Age. Paris, 1977, p. 93.
. Эта двоякая сакрализация привела к противопоставлению (вплоть до крестового похода и даже до Бернара Клервоского) тех, кто не может проливать кровь, и тех, кому это дозволено, – до такой степени, что вскоре тех, кто раньше был солдатом, запретили посвящать в сан: пролитая кровь как бы лежала на них неизгладимым пятном. [52] См. на эту тему многочисленные тексты, приведенные Орню: Hornus J. M. L'excommunication des militaires dans la discipline chretienne / / Communio Viatorum 3, 1960, и Evangile et Labarum. Op. cit., p. 139.
Интервал:
Закладка: