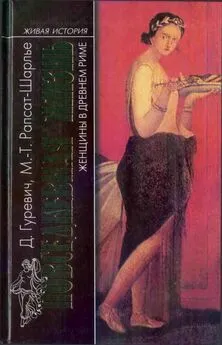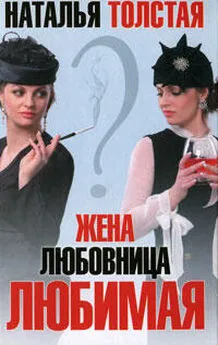Наталья Пушкарева - Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии. Невеста, жена, любовница
- Название:Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии. Невеста, жена, любовница
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-128-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Пушкарева - Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии. Невеста, жена, любовница краткое содержание
Частная жизнь человека неизменно вызывает жгучее любопытство. Но как ни парадоксально до недавнего времени ее изучению не придавалось большого значения.
Особенно в этом смысле нё повезло русским женщинам, на протяжении веков пребывавшим в тени мужчин. Реконструировать «женскую историю» Древней Руси и Московии на основе фольклорных, церковно-учительных и летописных памятников взялась Наталья Пушкарева. Из чего складывались повседневный быт и досуг русской женщины, как выходили замуж и жили в супружестве, как воспитывали детей, как любили, на какие жертвы шли ради любви и какую роль в жизни древнерусской женщины играл секс — обо всем этом рассказывается в блестящем исследовании «Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница».
О "женской истории" Древней Руси и Московии мы не знаем почти ничего. Однако фольклорные, церковно-учительные и летописные памятники — при внимательном их прочтении специалистом — могут, оказывается, восполнить этот пробел. Из чего складывались повседневный быт и досуг русской женщины, как выходили замуж и жили в супружестве, как воспитывали детей, как любили, на какие жертвы шли ради любви, какую роль в жизни древнерусской женщины играл секс — об этом и еще о многом, многом другом рассказывается в книге доктора исторических наук, профессора Натальи Пушкаревой.
Наталья Пушкарева — доктор исторических наук, профессор, глава Российской ассоциации исследователей женской истории.
Работа над данным научно-популярным изданием велась автором при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (проект — «Российская повседневность за десять веков в зеркале гендерных отношений. X–XXI вв.»)
Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии. Невеста, жена, любовница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В конечном же счете «теремное затворничество» возникло как результат воздействия целой совокупности причин, став причудливой смесью суеверий о «нечистоте женщины» (неслучайно к строгости теремного уединения прибегали с того времени, когда у девочек наступали первые регулы и они становились «нечистыми») и религиозных представлений о необходимости самоочищения уединением и аскезой («терем как произведение древнего благочестия, ибо дом уподоблялся монастырю»). Расхожее представление о тереме как о «клетке» для жены, построенной, чтобы «самому пожинать плоды достоинств жены и быть уверенным, что она Tie у чужого бока», вырказал еще в начале XVII века современник-англичанин (ср.: «имея у себе жену велми красну, замы- каше ея всегда от ревности своея к ней, во высочайшем тереме своем, кл^очи же от терема того при себе ношаше» 55).
У некоторых бояр и высшей знати женские части теремов представляли собой относительно просто, по сравнению с «передней» или «приемной палатой», обставленные (реже — западной мебелью, как в семье князя В. В. Голицына, чаще резными дубовыми сундуками-«укладками», обтянутыми «рытым бархатом», и скамьями, обитыми итальянской тканью), великолепно убранные золочеными кожами на стенах и ткаными шпалерами хоромы, находящиеся на некотором отдалении от общей жизни дома или наверху, на втором этаже. Светлицы, в которых протекала дневная часть жизни боярыни, несмотря на кажущуюся роскошь убранства, имели маленькие окна и освещались лучинами. Женские спальни — по сравнению с парадными спальнями основной части дома — не имели кроватей. Даже в самых зажиточных домах женщины спали обычно на спальных лавках или ларях, безо всяких кружевных простыней и подушек (их выставляли только напоказ в парадных комнатах), на «подголовках» со скошенною крышкой, служивших одновременно местом хранения драгоценностей. Спальня, светлица да внутренний двор для прогулок были тем замкнутым пространством, на котором протекала жизнь некоторых «заключенных в тайных покоях» (как называл их Г. Котошихин) княжон и боярышень 56.
Ни в каких слоях московского общества, кроме крайне узкого слоя зажиточных бояр-горожан и приближенных к царю княжеских фамилий, устройство подобного женского терема было практически невозможно. Обычные горожанки жили не в теремах и дни проводили не взаперти, а на «торжищах» и в хлопотах по хозяйству, в мастерских, на огородах. Причем это было характерно не только для московского периода, но и для более раннего времени. Выразительной иллюстрацией к дискуссии о «свободе» и «несвободе» древнерусской женщины в семье и ее частной жизни является приписка в тексте одного из «Прологов» (XV век): «Плечи болят. Похмелен (повторяется трижды. — Я. Я). Пошел бы в торг, да кун нет. А попадья ушла в гости…» Тем не менее теремной образ жизни представительниц московской аристократии, отличный от «модели быта» европейских женщин того же ранга и той же поры, не мог не поразить путе- шественников-иностранцев 57. Но так ли хорошо укрывал терем боярских и княжеских дочек от житейских соблазнов?
В том, что «монастырский уклад» домашней жизни представительниц московской аристократии мог быть нарушен, убеждает эпизод с выбором боярышни-невесты царю Ивану Грозному, оказавшейся уже после смотрин (!) «лишенной девства» и потому выбывшей из конкурса 58. В семьях же не столь высокопоставленных теремной уклад нарушался, наверное, еще чаще. Особенно показательны в этом смысле источники середины — конца XVII века, в частности написанные в 1680-х годах письма подьячего Арефы Малевинско- го к сестре дьякона Анне, жившей в Устюжне. Сколь ни присматривали за девушкой и ни держали ее взаперти, но «как два часа ночи пробьет» — она убегала из терема на свидания к Арефе, отчаянному соблазнителю, склонившему Анницу к тайной связи. О таких, как Анница, и было сложено, вероятно, присловье: «Стыд девичий до порога» (терема) 59.
В отличие от писем представителей придворных кругов, а также от «грамоток» провинциальных помещиков и помещиц, письма Арефы — а дело его хранится и по сей день в Архиепископском разряде Собрания грамот и актов PH Б в Санкт-Петербурге — начисто лишены этикетных условностей. Они скорее являются любовными записками, нежели письмами: в них часто отсутствует обращение к корреспондентке, много описок и повторов, свидетельствующих о том, что писались они тайно и наспех. Кроме того, адре- сатка была, вероятно, недостаточно грамотна: начало всех писем Арефа писал полууставом (как и мы сейчас стараемся писать детям печатными буквами), который к концу записки переходил в скоропись. В отличие от обычного зачина в семейной переписке высших сословий — «свет мой, государь (государыня)», в записках Арефы сразу излагалась суть, а обращения могли бы составить целый список ласковых имен: «серцо мое», «надёжа моя», «друг моя», «люба» 60. Казалось бы, как могла девушка сомневаться в искренности чувства Арефы («не могу, друг, терп[е] т[ь]», «уж я головы своей не щажу», «я бы, хощя скажи, на ножь к тебе шел, столь мне легко», «выдь, тошно мне болно стало», «что ты надо мною зделала», «разве смерть моя с тобою разлучит»), как могла не поверить его признаниям, переходящим в угрозы («не отпишешь — я и сам стану достават тебя!»)?
Между тем облик соблазнителя, а не просто влюбленного, потерявшего от страсти рассудок, проступает в этих тринадцати сохранившихся письмах Арефы (писем Анницы не дошло) довольно ясно: то он просит «повидатца» поскорее, поскольку его «посылают в волост, долго не быть», то ему необходимо «ехат с сыном молит[ь]ся» (он еще и отец к тому же!), а то и вовсе он извиняется, что не вышел на свидание, поскольку «в бане проспал» (!). Можно только догадываться, какие переживания вызывали у Анницы подобные откровения.
Укор Арефы — «впрям ныне ты меня водишь в узде!» — более уместен в устах прожженного сердцееда, нежели искренне любящего человека. Арефа упрекал Анницу в том, что она с сомнением относится к бурным излияниям его чувств («я на тебя сердит, что ты словам не веришь», «ты надо мною сме- есся»), и утверждал, что он, с одного из свиданий «идучи-то все плакал» («а ты мне не виришь, виришь чмутам (сплетникам. — Я. Я.), ей уж не могу жить»), однако даже нам, спустя три с лишним столетия, описания его «роковых страстей» кажутся нарочитыми, а поведение девушки — отказ выходить к любовнику по первому его зову («омманула, не пришла»), скупость чувств («остудилас[ь со мною») — разумным.
Как можно понять из дела подьячего Арефы, к которому приложены данные письма 61, он, хотя и писал в своих записках Аннице, чтобы она ускользала из дому «бережно», выходила к нему на свиданья (то в огород, в «родивонов хмельник», то в баню, то «на сарай») непременно одна, без наперсниц («не емли содому-то с собой»), сам не слишком боялся огласки своих интимных дел. Чего не скажешь об Аннице — учитывая нравы того времени. А Арефа только в письмах сокрушался, что «над» ним «грозятся больно», в действительности же не особо растерялся даже тогда, когда его «письма дьякон (то есть брат Анницы) видял, мне сказывал».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: