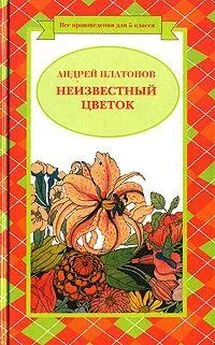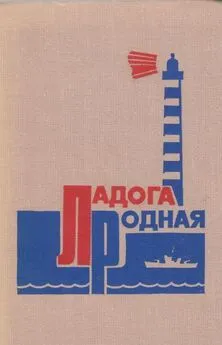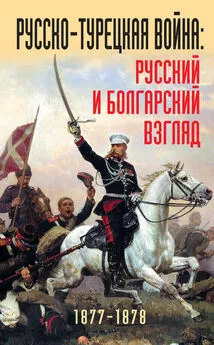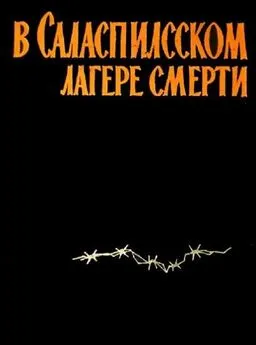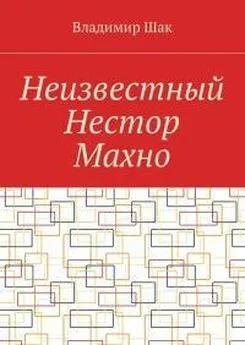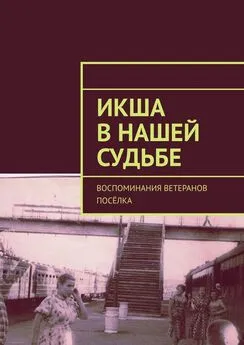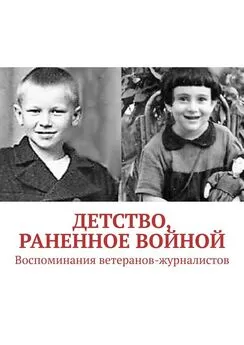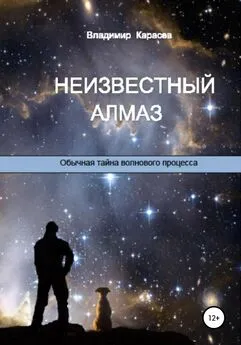Владимир Порошков - Неизвестный Байконур. Сборник воспоминаний ветеранов Байконура
- Название:Неизвестный Байконур. Сборник воспоминаний ветеранов Байконура
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Глобус
- Год:2001
- Город:М.
- ISBN:5-8156-0051-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Порошков - Неизвестный Байконур. Сборник воспоминаний ветеранов Байконура краткое содержание
В сборник вошли воспоминания непосредственных участников событий на космодроме Байконур в 1955–2001 гг. Авторы рассказывают о многих неизвестных широкому читателю событиях, фактах, эпизодах работы, службы и жизни испытателей, их увлечениях, впервые называют всех начальников космодрома и их заместителей, показывая напряженную работу и круг тех задач, которые им приходилось решать на Байконуре.
Книга «Неизвестный Байконур» проникнута духом патриотизма и любви к Байконуру, гордостью за его роль в создании «ракетного щита» нашей Родины и освоении космического пространства и является ярким дополнением к истории космодрома Байконур и Ракетных войск стратегического назначения.
Подготовлена к публикации при активном участии Совета ветеранов космодрома Байконур и может быть рекомендована как учебное пособие для курсантов и слушателей военных училищ и академий, студентов вузов и учащихся школ старших классов, интересующихся историей космонавтики. Рассчитана на широкий круг читателей.
Неизвестный Байконур. Сборник воспоминаний ветеранов Байконура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Через некоторое время в наш полк пришел приказ о моем переводе в Дом офицеров на должность шофера-моториста. По этому приказу создавался оркестр русских народных инструментов гарнизона и я назначался его нештатным руководителем. Так на Байконуре начиналась моя дирижерская деятельность. В Доме офицеров было немного солдат срочной службы — два киномеханика, три мастера по ремонту радиотелевизионной аппаратуры, пианист Е. Николаев, фотограф Кащеев, позже — режиссер детского театра А. Падука и я. Там мы, все рядовые, несли службу (выполняли все необходимые работы по Дому офицеров, охраняли ночью соседний деревянный кинотеатр, малоприятное занятие, особенно зимой, перестраивали на берегу реки из бывшего туалета тир, была шутка «из сортира — тир», и т. д.), выполняли свои обязанности, порученные нам политотделом.
Начальником Дома офицеров был талантливый человек майор Василий Петрович Дорохов, заслуженный работник культуры. Это он написал слова гимна Байконура «Среди барханов солнечного края…», а музыку сочинил композитор Карахан. Помнится, что я сделал позже оркестровку этой замечательной песни. Моим непосредственным начальником стал строгий старший лейтенант, позже капитан, у которого был очень красивый голос — тенор, Юрий Иванович Высота.
Я получил возможность заниматься на рояле. Для оркестра русских народных инструментов была выделена комната, закуплен комплект инструментов и струн. Я с головой ушел в работу по созданию оркестра. Нот не хватало, делал оркестровки, обработки. Конечно, пригодились знания и навыки, полученные в классах моих институтских учителей, низкий им поклон, — выдающихся русских композиторов профессоров Николая Ивановича Пейко, Александра Георгиевича Чугаева и последнего представителя семьи Гнесиных, Фабия Евгеньевича Витачека, а также оперно-симфонического дирижера, музыковеда и, как стало известно после его кончины в 1995 г., выдающегося церковного композитора Сергея Зосимовича Трубачева (отца Сергия), в классе которого я занимался факультативно дирижированием.
Самое трудное было найти и убедить людей играть в оркестре в свободное от службы время. Мне очень помогали в политотделе полигона. По приказу командования полигона был составлен список солдат из частей, которым разрешалось два раза в неделю посещать оркестр. По радио и местному телевидению было дано объявление о наборе в оркестр, нарисованы афиши о начале его работы. Пришло довольно много людей — более 40 офицеров, сверхсрочников и членов их семей. Были монтажники, работающие на площадках, гражданские служащие полигона. Занималось примерно 60 человек. Главное было научить людей играть, ведь большинство этого не умело, сделать работу интересной, увлечь и удержать людей. Не скрою, это было нелегко. Ведь я сам на ходу учился, искал методы, как быстро научить оркестрантов музыкальной грамоте, научить и одновременно с этим играть в ансамбле, уметь играть по моей руке и т. п.
Дирижерская профессия очень трудна. Помимо хорошего развитого музыкального слуха требуются большие специальные знания по всем разделам разветвленной музыкальной науки, специальная дирижерская одаренность, способность передавать коллективу людей свои представления о характере и оттенках исполняемого произведения, воля и многие другие качества. Но главным, на мой взгляд, в дирижерской профессии является беспредельная любовь к музыке, вера в ее главную миссию — объединять людей, делать их добрее, чище, наполнять жизнь человека высокой поэзией музыкального творчества гениальных представителей человечества — творцов музыки. Я полагаю, что, если человек знает и любит народное творчество, знает и любит музыкальную классику русских и зарубежных композиторов, он и работать будет иначе — творчески активно.
Оркестр уже через два с половиной месяца выступил первый раз, а через некоторое время была готова программа, с которой мы регулярно играли в частях и коллективах космодрома Байконур. С оркестром выступали певцы — капитан Бут (тенор), Борис Херсонский, инженер из хозяйства С. П. Королева (тенор), старший инструктор политотдела по культурно-массовой работе подполковник Н. А. Петров (бас), Татьяна Сударкина (сопрано) и др. Интересно, что именно к нам в оркестр пришел 16-летний ученик 30-й средней школы Сергей Захаров, впоследствии ставший знаменитым певцом. Я сделал для него оркестровку песни А. Островского «Небо, небо…», которую он пел красивым, но еще только формирующимся голосом. Инструктор Дома офицеров по художественной самодеятельности Полина Григорьевна Ожигина, энергичнейшая женщина, друг оркестра и самый суровый критик его игры, забраковала исполнение этой песни Сережей, и пришлось его выступление заменить выступлением рядового Торондуша, обладателя действительно красивого «взрослого» баритона. Но мне было за Сергея тогда очень обидно.
В репертуар оркестра входили обработки русских народных песен, произведения В. В. Андреева и других композиторов, писавших для оркестра русских народных инструментов, а также произведения русской и зарубежной классики, переложения которых я делал сам. Это романсы М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, произведения В. А. Моцарта, Э. Грига, И. Брамса и многих других авторов, популярные песни того времени, произведения советских композиторов С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, Д. Д. Шостаковича, и др. Произведения были самые разные по жанру — от народных и эстрадных песен до произведений классиков, весьма трудных по форме, в том числе произведения для солистов и хора с оркестром. В репертуаре оркестра за три года моей службы накопилось свыше двухсот произведений.
Это был огромный труд. Мне приходилось заниматься помимо практического руководства и организационных дел оркестровкой, перепиской оркестровых голосов. Мы давали примерно от 5 до 8—10 концертов в месяц. Встречали всегда хорошо. Ведь слушали нас на Байконуре люди удивительные, благодарные. Оркестр и я были удостоены званий лауреатов нескольких смотров художественной самодеятельности.
В Доме офицеров всегда кипела большая напряженная работа, и вряд ли я смогу даже кратко ее охарактеризовать в полной мере.
Напишу лишь о той работе, в которой мне приходилось участвовать помимо моего оркестра.
При Доме офицеров работал вокальный кружок. В нем пели кроме названных исполнителей другие одаренные певцы: Мздислава Шумская с замечательным легким подвижным колоратурным сопрано, Нелли Шкорина, певшая в народной манере. Некоторые певцы предпочитали, чтобы я аккомпанировал им на фортепиано. Думаю, потому, что я мог очень легко играть аккомпанемент в любой тональности, а также играл популярные мелодии без нот. Последнее качество оказалось очень ценным. Довольно трудным для меня технически был концерт с подполковником Н. А. Петровым, у которого был очень красивый бас полного диапазона. Пришлось много заниматься. Помню, особенно были для меня трудны арии Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки и ария Мельника из оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского. Пришлось учить наизусть. Помогал мне в освоении техники фортепианной игры мой товарищ Женя Николаев, у которого за плечами было фортепианное отделение Рязанского музыкального училища.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: