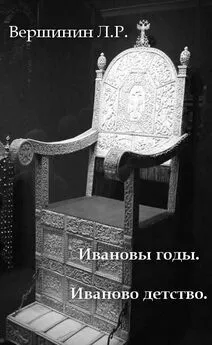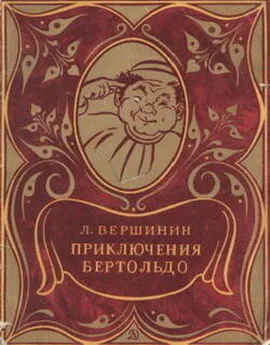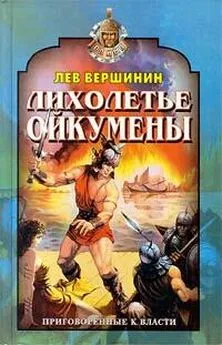Лев Вершинин - Ивановы годы. Иваново детство.
- Название:Ивановы годы. Иваново детство.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Вершинин - Ивановы годы. Иваново детство. краткое содержание
На своей странице в Живом Журнале (putnik1.livejournal.com) Лев Вершинин опубликовал несколько записей, объединенных в цикл "Ивановы годы", в которых рассказывается о временах правления Ивана Грозного, истории возникновения опричнины, гипотеза причин её возникновения, её роли в развитии государства и хода Ливонской войны.
Ивановы годы. Иваново детство. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вслед за тем Девлет-Герай получил от Стамбула карт–бланш на « действия от имени султана и халифа», а через год, в сентябре, организовал очередное нашествие на рязанские окраины и Тулу, с полным равнодушием Порты ко всем примирительным инициативам Ивана (говорите с нашим представителем). После чего зимой 1571 года Москва решила создавать новую, полноценную «засечную черту» — границу с цепью крепостей. Однако Девлет–Герай, зная, что основные силы русской армии заняты в Ливонии, сыграл на упреждение, по первой же траве, в апреле, двинувшись на север. В принципе, всего лишь «за зипунами». Однако в самом начале похода получил информацию о стратегически важных бродах на Оке, позволяющих обойти опричные заслоны и выйти к столице. От кого конкретно, непонятно по сей день: от « новокрещенных татар», от какого-то Кудеяра, от (по Соловьеву) от неких « государевых изменников», — говорят всякое. Но тот факт, что умный и опытный хан поверил информаторам и хоть ненадолго рискнул подставить фланг под теоретически не исключенный удар русских войск, позволяет принять за основу мнение Виппера: « хан действовал по соглашению с Сигизмундом, об этом знали в Москве сторонники польской интервенции (участники заговора Челяднина–Старицкого), которые ещё не перевелись, несмотря на казни: они «не доглядели« приближения татар, не сумели, или, лучше сказать, не захотели организовать оборону столицы ». А если учесть, что комендантом Москвы в тот момент был опричный князь Темкин–Ростовский, конфидент Басманова и соучастник гибели митрополита Филиппа, на мой взгляд, только добавляет предположению достоверность.
Как бы то ни было, Орда, ударив с фланга, смяла заслоны и прорвалась к столице. Не стану повторять глупости насчет « опричники трусливо разбегались при виде врага», — это нигде не зафиксировано, даже на следствиях, — но, тем не менее, Москва запылала, а Иван отошел на север, тем самым, по версии рукопожатного г–на Радзинского, проявив себя, как последний трус и негодяй: « Беззащитная Москва была брошена на произвол судьбы. Так он боялся». Хотя на самом деле, царь сделал то единственное, что мог и обязан был сделать: отступил в те места, где можно было максимально быстро собрать войска. Точно так же, как когда-то Дмитрий Донской, да и многие иные, которых никто и никогда не имел оснований обвинять в трусости. Спасти Москву он не мог никак, а погибнуть вполне, и тогда погибла бы не только столица. Тех же, кому такого аргумента не довольно, рекомендую принять во внимание, что несколько месяцев спустя, когда стало ясно, что нового прихода Девлет–Гирея не миновать, и более того, теперь он придет вместе с турками, английский посол был уведомлен о прекращении секретных переговоров по поводу предоставления царской семье убежища в Англии.
Далее постараюсь кратко. На пепелище Москвы (разгром был чудовищный) провели разбор полетов. Определили виноватых: опричного главнокомандующего Михаила Черкасского, царского свояка, допустившего прорыв Орды (он дрался храбро, но главком отвечает за все), князя В.И.Темкина–Ростовского (того самого), опричного воеводу Яковлева, известного беспределом в Ливонии, — и усекли головы. Переформировали войска, не особо глядя, кто есть кто. По ходу дела, кстати, проверяя жалобы земских на опричников, и (диво дивное!) безжалостно штрафуя обидчиков. Попытались выиграть время, предложив хану кондоминиум над Астраханью, — но безуспешно: Девлет–Герая уже несло, и он не слушал даже собственных вазиров, убеждавших владыку не искать добра от добра, требуя и Астрахань, и Казань, и «дань как при Батые». Ну и, в конце концов, летом, прославленная победа при Молодеях, где смешанная земско–опричные рать остановила и на 80% уничтожила усиленные турецким корпусом и артиллерией войска Девлет–Гирея, поставив точку на «русских» и «волжских» проектах Стамбула, а Крымское ханство из зенита региональной гегемонии на грешную твердь. И вот теперь, по итогам событий, пришло время сводить дебет с кредитом.
При всем том, что Ивану (как Ричарду III или Макбету) выпала незавидная доля стать «букой», главным злодеем «черной легенды», вовсе уж замылить реальность не удавалось даже в наихудшие времена. « Муж чудного разумения в науке книжного поучения и многоречив зело, — писал князь Катырев–Ростовский, убежденный аристократ, единомышленник Курбского, — к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен: Той же царь Иван многая благая сотвори, воинство вельми любяше и требующего им (воинством) от сокровища своего нескудно подаваяша». А уж позже, когда за дело взялись профессионалы, и подавно. « Разумеется , — пишет, например, Иоганн Эверс, — во всех дошедших до нас источниках, как русских, так и иностранных, вполне согласны, что Иоанн справедливо заслужил имя Грозного. Но вопрос в том, был ли он вследствие справедливости строг до жестокости, или от чрезмерной склонности к гневу предавался до самозабвения грубым беспутственным жестокостям. Последнее представляется сомнительным. Известно, что между всеми государями, понявшими испорченность государственной машины и потребности народа и стремившимися править своим государством согласно такому пониманию, этому государю, то есть Иоанну, принадлежит весьма высокое место ».
Вполне соглашается с историком и очевидец, ливонский хронист Кельх: « Иоанн был рачителен к государственному управлению и в известные времена года слушал лично жалобы подданных. Тогда каждый, даже менее всех значущий, имел к нему доступ и смел объяснять свою надобность. Государь читал сам просьбы и решал без промедления. В государственные должности он производил людей к ним способных, не уважал никого и чрезмерно пекся, чтобы они не допускали подкупать себя и не искали собственной выгоды, но всякому равно оказывали справедливость; жесточайше наказывал неоплатных должников, обманщиков и не терпел, чтобы туземцы и чужестранцы таким образом обкрадывали друг друга ». Что и дало Арцыбашеву основание отметить: « С удя по этому и описанию Кубасова, хотя и можно заключить, что Иоанн был излишне строг и невоздержен, но отнюдь не изверг вне законов, вне правил и вероятностей рассудка, как объявлено (Карамзиным) в Истории Государства Российского ». Сам Карамзин, правда, обильно цитируя Кельха по всем поводам, данную характеристику обходит изящным молчанием, но изредка пробивает и его: « (Иоанн) любил правду в судах: казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и стыдом: не терпел гнусного пьянства: Иоанн не любил и грубой лести ».
Короче говоря, признает Скрынников, « Грозный прощал дьякам «худородство», но не прощал казнокрадства и « кривизны суда». Он примерно наказывал проворовавшихся чиновников и взяточников», не делая, правда, единственно логического вывода: что в числе «невинных жертв» немалую долю составляют чиновники, казненные за всякого вида злоупотребления. Собственно, и Опричнина была учреждена в немалой степени для ликвидации коррупции и беспредела, причем, выдвигая новых людей и давая им соответствующие инструкции, царь исходил из того, что его инструкции буду выполнены точно. В связи с чем, и предоставил карт–бланш, фактически, — слово очевидцу! — выведя из-под обычной юрисдикции (« Судите праведно, наши виноваты не были бы»). Но, поскольку люди есть люди, в результате Опричнина очень быстро подхватила тот же вирус, что и «ординарные» структуры, сочтя себя, — как позже НКВД на «ежовском» этапе и многие аналогичные организации, — пупом земли, которому можно все. И не без оснований. Отвечая только перед собственным начальством (которое покрывало, ибо и у самого было рыльце в пушку) и царем (до которого далеко) опричные кадры, вчерашние никто, ставшие всем, разлагались с несусветной скоростью. Тянули на себя, как могли, вовсю используя политические доносы (жалоба опричника на земца почти автоматом означала для земца тюрьму, а для опричника — получение «зажитков обидчика»). На местах царил и прямой криминал, — причем самый (на мой взгляд) адекватный источник, Генрих Штаден, сам опричник, прямо пишет, что « они обшарили все государство, на что царь не давал им согласия».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: