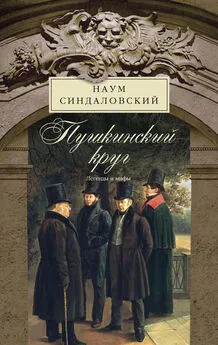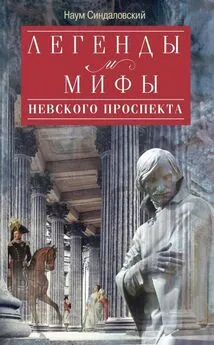Наум Синдаловский - Легенды петербургских садов и парков
- Название:Легенды петербургских садов и парков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-03693-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Синдаловский - Легенды петербургских садов и парков краткое содержание
В новой книге Наума Синдаловского рассказано более чем о восьмидесяти садах и садиках, парках и скверах, бульварах и аллеях Северной столицы и ее пригородов. На самом деле их гораздо больше, но мы были вынуждены ограничиться заявленной темой и рассказали только о тех из них, которых не обошел своим вниманием петербургский городской фольклор. Вас ждут увлекательные, полные тайн и загадок истории. Книга написана легко и читается на одном дыхании, впрочем, как и все предыдущие книги автора.
Легенды петербургских садов и парков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В середине XIX века зимой на центральных улицах Петербурга устанавливались легкие дощатые павильоны, в центре которых разводили костры. Вокруг них, греясь, попивая сбитень и балагуря, собирались извозчики в ожидании своих хозяев после ночных балов и вечерних спектаклей. Про такие костры язвительные петербургские пересмешники говорили: «Сушить портянки боженьке». Иностранцы, во множестве посещавшие Петербург, с восторгом рассказывали своим соотечественникам, что зимой в россии так холодно, что «русские принуждены топить улицы — иначе бы, дескать, им и на улицу нельзя выйти».
Впрочем, в конце концов и в Петербурге наступало время, когда в атмосфере возникало всеобщее радостное предощущение весны. С главных улиц и площадей города исчезали сугробы — характерные атрибуты петербургских зим. По воспоминаниям художника Мстислава Добужинского, в конце зимы «целые полки дворников в белых передниках быстро убирали снег с улиц». Среди петербуржцев это называлось: «дворники делают весну в Петербурге». Затем начинался торжественный проход по Неве ладожского льда, или «Ладожских караванов», как называли петербуржцы неторопливо проплывающие между гранитными берегами ледяные глыбы. Они вселяли окончательную уверенность в приходе долгожданной весны. В петербургский климат ледоход вносит некоторые изменения. Среди обывателей живут давние питерские приметы: «Пойдет ладожский лед — станет холодно», и в то же время: «Ладожский лед прошел — тепло будет».
В начале XX века в Москве вышел известный двухтомник «опыт русской фразеологии» М.и. Михельсона, в котором автор наряду с другими устойчивыми фразеологизмами дает и такое понятие, как «петербургский климат» — в смысле «нехороший, нездоровый», и «петербургская погода» — в значении «нездоровая, переменчивая». Это давнее наблюдение время от времени подтверждается фольклором весьма отдаленных от Петербурга регионов. Однажды на Кавказе автору этих строк довелось выслушать традиционное признание горцев в их любви к ленинградцам. Сделано это было в обыкновенной фольклорной форме: «Любим мы вас, ленинградцев, но никак не можем понять, как вы живете на одну зарплату и дышите не воздухом, а водой». Оставим «одну зарплату» на их совести, но вот с «водой вместо воздуха» они угадали. И как бы они удивились, если бы еще знали, что в XIX веке рафинированные предки этих самых невзыскательных ленинградцев не только предпочитали душному летнему городу влажную прохладу болотистого балтийского взморья, но еще и кичились этим! В петербургском фольклоре сохранилась пословица: «Подышать сырым воздухом Финского залива». Понятно, что здесь больше насмешливой самоиронии, чем медицинского смысла. Петербуржцы на этот счет не заблуждались. «Жить в Петербурге и быть здоровым?!» — успокаивают они сами себя, а кашель, подхваченный гостями города, называют «сувениром из Петербурга».
И все-таки наибольшую опасность для первых жителей Петербурга представляли не туманы или дожди, а повторявшиеся из года в год и пугающие своей регулярностью наводнения, старинные предания о которых с суеверным страхом передавались из поколения в поколение. Рассказывали, что древние обитатели этих мест никогда не строили прочных домов. Жили в небольших избушках, которые при угрожающих подъемах воды тотчас разбирали, превращая в удобные плоты, складывали на них нехитрый домашний скарб, привязывали к верхушкам деревьев, а сами «спасались на Дудорову гору». Едва Нева входила в свои берега, как жители благополучно возвращались к своим плотам, снова превращали их в жилища, и жизнь продолжалась до следующего разгула стихии. По одному из дошедших до нас любопытных финских преданий, наводнения одинаковой разрушительной силы повторялись через каждые пять лет.
Понятно, что наводнения связывали с опасной близостью моря. Поговорки: «Жди горя с моря, беды от воды»; «Где вода там и беда» и «Царь воды не уймет» — явно петербургского происхождения. Если верить легендам, в былые времена во время наводнений Нева затопляла устье реки Охты, а в отдельные годы доходила даже до Пулковских высот. Известно предание о том, что Петр I после одного из наводнений посетил крестьян на склоне Пулковской горы. «Пулкову вода не угрожает», — шутя, сказал он. Услышав это, живший неподалеку чухонец ответил царю, что его дед хорошо помнит наводнение, когда вода доходила до ветвей дуба у подошвы горы. И хотя Петр, как об этом рассказывает предание, сошел к тому дубу и топором отсек его нижние ветви, спокойствия от этого не прибавилось. Царю было хорошо известно первое документальное свидетельство о наводнении 1691 года, когда вода в Неве поднялась на 3 метра 29 сантиметров. При этом нам, сегодняшним петербуржцам, при всяком подобном экскурсе в историю наводнений надо учитывать, что в XX веке для того, чтобы Нева вышла из берегов, ее уровень должен был повыситься более чем на полтора метра. В XIX веке этот уровень составлял около метра, а в начале XVIII столетия достаточно было сорока сантиметрам подъема воды, чтобы вся территория исторического Петербурга превратилась в одно сплошное болото.
Но и это еще не все. Казалось, природа попыталась сделать последнее предупреждение. В августе 1703 года на Петербург обрушилось страшное по тем временам наводнение. Воды Невы поднялись на 2 метра над уровнем ординара. Практически весь город был затоплен. Но ужас случившегося состоял даже не в этом, а в том, что наводнение неизбежно. Но в августе?! Такого старожилы не помнили. В августе наводнений быть не должно. Это можно было расценить только как Божий знак, предупреждение. И тогда заговорили о конце Петербурга, о его гибели от воды. И в дальнейшем природа Петербурга напоминала о себе разрушительными наводнениями, каждое из которых становилось опаснее предыдущего. В 1752 году уровень воды достиг 269 сантиметров, в 1777 — 310 сантиметров, в 1824 — 410 сантиметров. Такие наводнения в фольклоре называются «Петербургскими потопами». Еще в XVIII веке в Петербурге сложилась зловещая поговорка-предсказание: «и будет великий потоп».
Наибольшую опасность при наводнениях вызывала их непредсказуемость и бешеная стремительность распространения воды по всему городу. Спасались от разбушевавшейся стихии, как от живого противника, бегством, перепрыгивая через заборы и другие препятствия. Сохранился анекдот о неком купце, который, опасаясь воровства, бил несчастных людей палкой по рукам, когда они бросились спасаться от воды через ограду его дома. Узнав об этом, Петр I приказал повесить купцу на всю жизнь на шею медаль из чугуна, весом в два пуда, с надписью: «За спасение погибавших». Впрочем, для некоторых такие наводнения считались «счастливыми». Известны случаи, когда иностранные купцы приписывали количество погибших от наводнения товаров, чтобы извлечь из этого выгоду у государства. Один из иностранных наблюдателей писал на родину, что «в Петербурге говорят, что если в какой год не случится большого пожара или очень высокой воды, то наверняка некоторые из тамошних иностранных факторов обанкротятся».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: