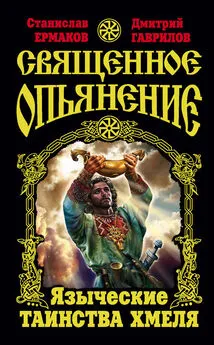Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля
- Название:Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-54264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля краткое содержание
«Руси веселье пити. Не можем без того быти!» – если верить легендам, именно этот довод предопределил выбор князя Владимира в пользу христианства, которое в отличие от ислама не запрещало употребление хмельных напитков. Однако стоит ли сводить поворотный момент русской судьбы к историческому анекдоту? Ведь в славянской традиции священное опьянение не имело ничего общего с бытовым пьянством – это был сакральный ритуал, священнодействие, допустимое лишь в праздники и на поминках, но жестко ограниченное в обыденной жизни. Будучи даром богов – сродни небесному огню, живой и мертвой воде русских сказок, – «царь яр-буен Хмель» возвышал человека вровень с Бессмертными, приобщал к высшим истинам, открывал врата в иной мир, дабы узреть сокровенное и запретное. Не случайно Церковь осуждала «бражничество» («Пьяницы да не наследуют Царства Небесного»), подозревая в нем не просто способ «напиться и забыться», а жертвоприношение исконным богам…
Прослеживая корни этого обряда от древних арьев, эллинов и скифов до германцев и славян, новая книга ведущих историков Языческой Руси не только реконструирует один из ключевых русских мифов, но и восстанавливает ритуалы священного опьянения и подлинные рецепты хмельных напитков наших предков.
Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подобное отмечено и у белорусов: «Мед быў абрадавай стравай при сватаўстве i вяселлi, тыя ж функыi ен выконваў i пры нараджэннi (iм частавалi жанчыну, якая станавiлася мацi)» (Цiтоў, 2001, с. 157).
Для поминовения же усопших в северной полосе зоны рискованного земледелия (то есть там, где невозможно выращивание винограда) издревле использовали крепкие (возможно, «горькие») напитки, в первую очередь «горелку» (украинск. горiлка). М. Фасмер справедливо возводит название напитка к «горению»: «Образовано аналогично польск. форме gorzaŧka, ср. чеш., слвц. pálenka от páliti; под влиянием нем. Branntwein «водка» от brennen «жечь» и Wein «вино», потому что этот напиток первонач. приготовлялся из вина». Относится ли название «горiлка» к способу приготовления, собственному горению напитка или к обжигающему действию на слизистую оболочку рта, однозначно сказать трудно.
Можно даже с известной долей риска допустить, что понимание Того Света как пекельного или огненного царства или прохождение тела и мертвеца в буквальном и переносном смысле чрез огонь (в период кремации или прижигания-припекания трупа) обусловили в конечном счете выбор в пользу данного горячительного (горького) напитка. Находящиеся на тризне, поминках, а затем на Деда́х, таким образом, как бы прикасались к потустороннему миру и его огню. Неудивительна в таком случае и этимологическая связь между словами «горе», «горечь» (утраты) и «горение». Опять же у Фасмера: «Го́ре. Укр. го́ре, ст. – слав. горе, сербохорв. го́ра «падучая болезнь», словен. gorjĕ «горе, плач», чеш. hoře – то же, др. – польск. gorze. K горе́ть. Ср. др. – инд. зṓkas «пламя, жар», также «мука, печаль, горе», нов. – перс. sōg «горе, печаль»… Менее вероятно сравнение с гот. kara «жалоба, скорбь».
Водка в погребальной обрядности служила ритуальным угощением не только родичам покойного, но и тем, кто принимал участие в подготовке похорон, включая самых бедных и неимущих членов сообщества. Обычай звать нищих для того, чтобы те обмыли труп, разные исследователи отмечают еще в начале XX в., в 1912–1915 гг. на Украине: «За это они получают от хозяина по чарке или по две горилки и закуску, которая состоит, как правило, из хлеба, соли, чеснока или лука». По трем коротким ударам колокола в селе узнавали, что кто-то умер. Любой из родни или знакомых при этом оставлял свои дела и шел в дом покойного человека, «потому что знал, что при этом выпьет чарку или две, а то и три горилки и что перекусит, – потому что так принято» (Лащенко, 2006, с. 19).
У старообрядцев (например, в восточном Подмосковье) эту роль в прошлом выполняли деревенские уставщики и начетчики – грамотеи и большие знатоки книжности, «старой веры, которые прежде контролировали духовную жизнь того или иного населенного пункта, выполняли ту часть треб и обрядов, которая не требовали обязательного участия священника» (Михайлов, 2006). Впрочем, это обстоятельство упомянуто нами по одной лишь причине: надо полагать, что в древности проводами усопших занимались люди языческого духовного сословия [46] (если таковое было выделено у данной группы славян) и тем паче был смысл передавать им в качестве своеобразной оплаты или для жертвования богам некую толику хмельного. То же обстоятельство, что большая часть жертвенных даров могла быть употребляема собственно служителями, скорее, выступает здесь дополнительным подтверждением сказанному.
«…Возле покойника сидят день и ночь. В это время говорится об умершем или о его покойных предках, про других покойников и поются песни про смерть и про Страшный Суд. Когда эта тема уже исчерпана, рассказывают небылицы, а парубки или старшие хозяева играют в карты (не на деньги). Время от времени гости угощаются горилкой. Когда читается Псалтырь, то горилку пьют и курят в сенях… Тема беседы, как правило, от серьезной переходит к легкой и даже… не исключены шутки», – свидетельствует Лащенко. Постепенно возбуждение охватывало всех присутствующих. Даже столь исключительный жанр народного творчества, как погребальные плачи, обретал при этом совершенно несвойственную ему ажитацию, то и дело «срываясь» в шуточные прибаутки и задорные припевки. Шуточные плачи могли проговариваться от имени вдовы (или вдовца). По свидетельству очевидцев, среди погребальных плачей, которые, собственно, и записаны в указанный период на Украине, «могли встречаться не только насмешливые, шуточные, но и охальные, с употреблением срамной лексики, пользовавшиеся особой популярностью у участников погребального обряда». Этим погребальный обряд больше походит на языческую тризну (Лащенко, с. 27–30, 39).
Архаичность обряда, надо полагать, не требует доказательств. Разумеется, горячительное в немалой степени способствовало также снятию барьеров и раскрепощению сознания. Это было необходимо, чтобы быть за одним столом с незримым покойным.
Такие же или весьма сходные обычаи зафиксированы и у других славян: на Смоленщине, у белорусов, сербов. На поминках после погребения (а также на Дедах) «водку», которая у разных славянских народов именуется по-своему, предлагают покойному и предкам, затем ее льют на скатерть, на поминальный стол или на пол, или даже на саму могилу, отливая от своей чарки или особо ставя отдельную (Славянские древности, 1995, т. 1, с. 393).
Осмысливая данные этнографии, исследователи начала прошлого века [47] отмечали: «…предки наши верили, что душа, по разлучении с телом, нуждается также в почестях и угощениях. В силу этого родственники и знакомые покойника старались всему этому удовлетворять не одними только молитвами и пожеланиями, но и вещественным выражением своих чувствований: так, в Литве и отчасти в Белоруссии (теперь) около так называемого поминального дня простолюдины заказывают обедню, собираются всем семейством в церковь, раздают милостыню бедным и потом отправляются на кладбище, где с полчаса все громко рыдают над могилами своих родственников, наконец возвращаются домой и вечером начинают поминать усопших, для этого тайком готовится пир в какой-нибудь часовне или в пустом доме близ кладбища. Там ставят блюда с разным кушаньем, напитками, овощами, вызывают души покойников, зажигая вино и лен, по цвету пламени судят о явлении душ, призываемых следующими словами: «Чего потребуешь, душечка, чтобы попасть на небо?» Если же поблизости нет кладбища, там пир устраивается в доме; по окончании этого стола хозяин берет утиральник и один конец его вывешивает за окно, а на другом ставит рюмку водки или стакан воды и кладет по частице всех кушаний, приготовленных для покойников. К утру, говорят, будто все пропадает, а что и остается, то раздают нищим…»
И в том же исследовании: «У жителей Олонецкого края обряд угощения покойников обыкновенно происходит так. Изготовив обед, выходят из избы как бы навстречу невидимым дорогим гостям. «Вы устали, родные, покушайте же чего-нибудь», – говорят им при входе, как бы вместе с ними, уже в саму избу. «Чай, зазябли, родные, – погрейтесь». И при этом уверены, будто умершие невидимо располагаются у домашнего очага, – живые же между тем усаживаются за стол. Перед последним кушаньем, киселем, поется «вечная память», хозяин выпускает из окна на улицу тот самый холст, при помощи которого покойники в свое время были опущены в могилу, и говорит им: «Теперь пора бы вам и домой, да ножки у вас устали, не близко ведь было идти – вот тут помягче – ступайте с Богом». При угощении покойников воображение простолюдина не исключает возможности угощать их даже вином и пивом; оно не может иначе и представить невидимого гостя или гостью, как только из плоти и крови, и не может иначе выразить к нему свое чувство уважения и любви, как в угощении. Это не только поэтический обряд, а действительное выражение самого понимания народа. В силу этого сирота-дочь, будучи уже невестой, прямо обращается к покойной матери с такими словами:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: