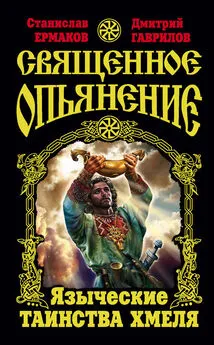Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля
- Название:Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Яуза»9382d88b-b5b7-102b-be5d-990e772e7ff5
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-54264-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Гаврилов - Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля краткое содержание
«Руси веселье пити. Не можем без того быти!» – если верить легендам, именно этот довод предопределил выбор князя Владимира в пользу христианства, которое в отличие от ислама не запрещало употребление хмельных напитков. Однако стоит ли сводить поворотный момент русской судьбы к историческому анекдоту? Ведь в славянской традиции священное опьянение не имело ничего общего с бытовым пьянством – это был сакральный ритуал, священнодействие, допустимое лишь в праздники и на поминках, но жестко ограниченное в обыденной жизни. Будучи даром богов – сродни небесному огню, живой и мертвой воде русских сказок, – «царь яр-буен Хмель» возвышал человека вровень с Бессмертными, приобщал к высшим истинам, открывал врата в иной мир, дабы узреть сокровенное и запретное. Не случайно Церковь осуждала «бражничество» («Пьяницы да не наследуют Царства Небесного»), подозревая в нем не просто способ «напиться и забыться», а жертвоприношение исконным богам…
Прослеживая корни этого обряда от древних арьев, эллинов и скифов до германцев и славян, новая книга ведущих историков Языческой Руси не только реконструирует один из ключевых русских мифов, но и восстанавливает ритуалы священного опьянения и подлинные рецепты хмельных напитков наших предков.
Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Гримхильд напиток
мне поднесла
терпкий, студеный,
чтоб горе забыла я:
сдобрен он был
силой земли,
холодной волной
и кровью вепря.
Были на роге
багряные руны —
что они значат,
прочесть не могла я:
вереска рыба,
Хаддинги края
несрезанный колос,
звериная пасть.
Были в той браге
многие беды,
листья и желудя
жженого пепел,
роса очага
и жертв требуха,
печень свиная,
свары гасящая.
(21–23; пер. А. Корсуна).
Итак, в брагу примешаны (в том числе) морская вода и кровь жертвенного животного. Они образуют целое, воссоединяясь в напитке жизни и смерти.
Но ведь это «дикие» скандинавы…
Однако, если верить свидетельству А. Фаминцына, славяне тоже не брезговали такого рода традиционными рецептами:
«…При разсмотренiи жертвенныхъ обрядовъ древнихъ славянъ, я указалъ на важное значенiе, которое приписывалось славянами-язычниками жертвенной крови. Болгары и ныне еще, когда колютъ барановъ въ Юрьевъ день, собираютъ истекающую изъ жертвеннаго животнаго кровь въ чашу и употребляютъ ее, какъ целительное средство. Жрецы балтiйскихъ славянъ пили жертвенную кровь, которая пробуждала въ нихъ даръ прорицанiя. На вкушенiе у русскихъ жертвенной крови намекаетъ митрополитъ Илларiонъ; кровью убитой на Рождество свиньи до сихъ поръ въ некоторыхъ местахъ Россiи брызгаютъ въ огонь, и ей приписывается способность изгонять нечистую силу изъ хлева. Такое же благотворное действiе приписывается и ныне еще крови петуха, закалываемаго латышами въ Усиньевъ день, изливаемой на овесъ или на косякъ двери въ конюшне. Съ такою же целью чехи въ страстной четвергъ (местами въ страстную пятницу или субботу) зарезываютъ двухъ молодыхъ голубей и кровь ихъ изливаютъ на приготовленныя для прочихъ голубей пшеничныя зерна. Голуби, поевшiе этихъ зеренъ, темъ предохраняются отъ всякихъ невзгодъ. У литовскихъ народовъ жрецъ (вуршкайтъ) возлагалъ руку на обреченное на закланiе жертвенное животное и, заколовъ его, собранную въ чашу кровь распрыскивалъ или окроплялъ ею присутствовавшихъ; остатокъ же крови последнiе делили между собой, и каждый окроплялъ ею у себя дома свою скотину» (Фаминцын, 1895, № 3. гл. 4).
Добавьте к этому уже изложенные выше представления о вине как о крови и о крови как о вине, которые, если дать себе труд изучить вопрос более внимательно, оказываются куда старше новозаветных преданий о Тайной Вечере. Выстраивается довольно логичная система координат мифического пространства, где «ортами» этого пространства являются: сок земли – ключевая (из-под земли бьющая) или морская влага, кровь-руда, струящаяся по жилам существа, и собственно хмельной напиток. С Этой стороны – напиток Жизни, а с Той стороны – напиток Смерти.
«И зеркало, и растопленный жир, масло, мед, и особенно вода в колодце представляют собой, согласно народным верованиям [сербов], границу между земным и потусторонним миром, этой и «той» жизнью, окно в иной мир» (Толстой, 2003, с. 457).
Подобно инъекции стволовых клеток человеку, продлевающий жизнь и омолаживающий организм божественный напиток (он же сок «запретного» плода с Древа Жизни) наполняет богов Силой.
Таким образом, напиток из меда или его аналог принадлежит одновременно и «верху», и «низу» или «то верху, то низу». Если громовник преимущественно поддерживает установленный в Мироздании порядок и следит за мерою справедливости, то обеспечивает этот порядок именно второй бог, подлинный владетель хмельного напитка – повелитель Иномирья. Право обладания напитком составляет предмет споров между богами. Напрашивается осторожное подозрение: уж не в этом ли сущность того спора, противоречия между Перуном и Велесом, в котором порою пытаются видеть «основной миф» славян?
В ранее опубликованных работах мы уже неоднократно высказывались в пользу той точки зрения, что основной миф должен «по факту» объяснять скорее космогонию, происхождение и устройство мира, а также причины появления и сущность человека. Согласитесь, предание о происхождении банального дождя, реконстрируемое в качестве упомянутой «грозовой основы» Ивановым и Топоровым, как-то не очень подходит на такую роль. Если же допустить, что спор идет о напитке жизни и смерти, «гаранте» бессмертия, то корни противоборства становятся куда более прозрачны. Спор из-за такого питья вполне достоен того, чтобы стать частью «основного мифа», не так ли?
Напомним: сохранившиеся у славян предания о появлении хмельного напитка чаще всего приписывают ему двойное происхождение – от апокрифических сотворцов Мира, то есть и от Бога, и от черта (в позднем варианте записи это горилка, секреты приготовления которой поведал людям черт, а Бог установил, что каждый сам выбирает меру, сколько пить). Это – дополнительное подтверждение нашим умозаключениям.
Священную жидкость похищают. В сущности, человек занимается тем же самым, таская мед у пчел (хотя едва ли стоит проводить прямые аналогии). Характерно, что медведь – «ведающий медом» зверь, по сути также его отбирающий у пчел, уносящий тела повешенных Яном Вышатичем волхвов с древа в Иной мир, отсылает нас к Лесному Хозяину, то есть навьему властителю Велесу (Гаврилов, Ермаков, 2009, с. 72—115).

Орел. Древнерусское изображение на роге из Княжьей могилы. Уж не «родственник» это орла из Эдды?
Можно размышлять, какое место в собственно предании при таком его прочтении займет некая божественная птица, будь то добывающий сому орел-Индра, Гаруда, что крадет амриту, Один, в обличье орла приносящий «мед поэзии», тот же Зевс, похищающий в образе орла виночерпия Ганимеда. Кстати, и Жар-птица русских сказок крадет молодильные яблоки из чудесного сада. В них можно, наверное, опознать далеких родственников греческих яблок из сада Гесперид. Яблок, даровавших бессмертие. Яблок, за которыми отправился сам Геракл (в некотором смысле «родственник» славянского Ярилы), совершая очередной подвиг.
Похищенную или иным способом добытую жидкость, которая, ко всему прочему, есть сок Мирового древа, используют для продления жизни, исцеления и достижения некоего особого состояния сознания, которое мы бы назвали экстатическим. Это состояние двойственно, на что указывает и возможность отравиться небесным медом. В том ли дело, что напиток богов не предназначен для людей? Однозначного ответа, увы, нет .
Допущенный к испитию священного напитка обретает бессмертие или второе рождение, мудрость и возможность прозревать сокрытое. Пить его можно лишь в строго определенных количествах и исключительно в рамках обряда, в ритуальных условиях, что и обеспечивало достойное посмертное бытие, скажем, у ариев. Само истасканное ныне «эзотериками» слово карма первоначально (в ведические времена) как раз и касалось только и исключительно сферы священного и лишь позднее было распространено на более широкую область (Элиаде, 2008).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: