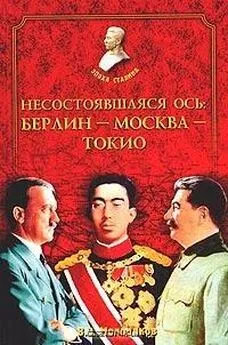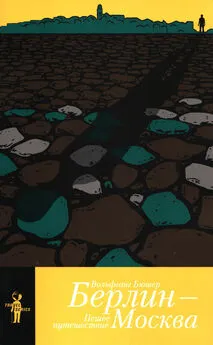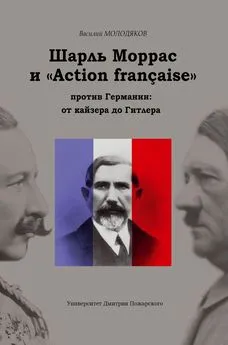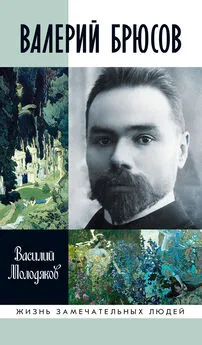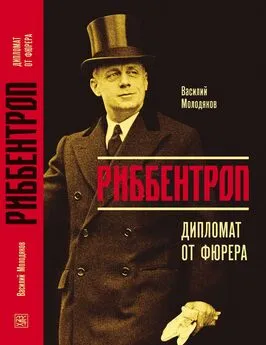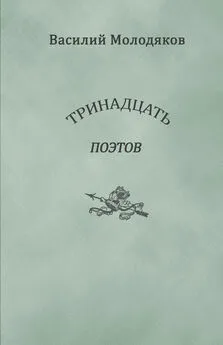Василий Молодяков - Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио
- Название:Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-94538-445-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Молодяков - Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио краткое содержание
Книга историка В.Э.Молодякова – первое большое исследование по истории концепции „континентального блока“ Германии, СССР и Японии и усилий по ее реализации. На рубеже 1940-1941 гг. „континентальный блок“, каким он рисовался Хаусхоферу, Риббентропу и Сиратори, был возможен. Причем возможен в силу не „сговора диктаторов“ и тем более не „единства тоталитарных идеологий“, но в силу общности глобальных геополитических интересов трех сильнейших стран Евразии. Почему не состоялась „ось“ и кто в этом виноват? В первую очередь Гитлер – он остался верен атлантистским и русофобским настроениям своей юности, которые умело подогревали заинтересованные люди как в самой Германии, так и за ее пределами… Данное исследование – это, по словам автора, не последнее слово об истории несостоявшейся „оси“ Берлин-Москва-Токио, но прежде всего „информация к размышлению“.
Несостоявшаяся ось: Берлин-Москва-Токио - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нарком иностранных дел Литвинов, опираясь на информацию разведки, имел все основания прямо говорить об антисоветском характере пакта, издеваясь над неуклюжими оправданиями германских и японских дипломатов. Выступая на Восьмом Всесоюзном Съезде Советов 28 ноября 1936 г., он обрушил на пакт всю силу своего знаменитого сарказма: «Люди сведущие отказываются верить, что для составления опубликованных двух куцых статей японо-германского соглашения необходимо было вести эти переговоры в течение пятнадцати месяцев, что вести эти переговоры надо было поручить с японской стороны генералу, а с германской – «сверхдипломату»… Все это свидетельствует о том, что «антикоминтерновский пакт» фактически является тайным соглашением, направленным против Советского Союза… Не выиграет также репутация искренности японского правительства, заверившего нас в своем стремлении к установлению мирных отношений с Советским Союзом». [175]
После войны и Риббентропу ничего не оставалось, как откровенно признать: «Разумеется, Антикоминтерновский пакт скрывал в себе и политический момент, причем этот момент был антирусским, потому что носителем идеи Коминтерна являлась Москва. Гитлер и я надеялись Антикоминтерновским пактом создать определенный противовес России, ибо между Советским Союзом и Германией имелось тогда и политическое противоречие». [176]Однако главным врагом он называет все-таки Коминтерн как политическую силу, а не СССР-Россию как государство, что вполне соответствует его геополитической ориентации, сформировавшейся под влиянием Хаусхофера.
23 октября, в день принятия окончательного решения о заключении пакта и его парафирования, Риббентроп направил Мусякодзи дополнительную ноту к секретному протоколу, в которой заявлялось, что положения заключенных ранее советско-германских договоров – Рапалльского договора 1922 г. и Берлинского договора о нейтралитете 1926 г. – не противоречат Антикоминтерновскому пакту. Иными словами, Германия не отказывалась от них и отделяла их как дипломатические документы общего характера от нового соглашения. Получив ее, Мусякодзи направил телеграмму Арита, в которой решительно говорил, что «дух этого пакта является единственной основой будущей германской политики в отношении Советского Союза» и что Риббентроп подтвердил правильность такого понимания. Япония ждала конкретных гарантий, опасаясь односторонних действий своего партнера по сближению с СССР, что могло казаться невероятным, но что как раз и случилось в августе 1939 г. Риббентроп гарантии дал, но оставил Германии «запасной выход». [177]
Подписание пакта 25 ноября 1936 г. сопровождалось специальными заявлениями обеих сторон, разъяснявшими их цели и намерения. Сначала их сделали лично Риббентроп и Мусякодзи, затем оба правительства. Сопоставим эти четыре документа. [178]Риббентроп резко атаковал решения Седьмого конгресса Коминтерна и действия коммунистов в Испании, превознося значение пакта: «Германия и Япония, будучи не в состоянии более терпеть махинации коммунистических агитаторов, перешли к активным действиям. Заключение Германией и Японией соглашения против Коммунистического Интернационала является эпохальным событием. Это поворотный пункт в борьбе всех чтущих законы, цивилизованных стран против сил разрушения… Все значение <���пакта. – В.М.> будет оценено только грядущими поколениями». Пышная риторика контрастировала со скромным содержанием опубликованного текста пакта и наводила на мысль, что за ним скрывается нечто большее. Стоит отметить, что, во-первых, об СССР «сверхдипломат» не сказал ни слова, а во-вторых, призвал «другие цивилизованные страны» включаться в борьбу и присоединяться к соглашению. Краткое и более сдержанное заявление Мусякодзи ограничилось констатацией вмешательства Коминтерна во внутренние дела других стран и его особой враждебности к Германии и Японии. Посол ни словом не упомянул о Советском Союзе, но ничего не сказал и о возможном расширении пакта.
Заявление правительства Германии имело подчеркнуто общий и вполне дипломатический характер: оно акцентировало внимание на оборонительной сущности пакта и его направленности против Коминтерна как организации, не упоминая СССР. В заявлении японского правительства, более конкретном и довольно агрессивном, говорилось о Седьмом конгрессе Коминтерна и Гражданской войне в Испании, о китайских коммунистических армиях как угрозе Японии и о совместном сопротивлении коммунизму как основе пакта. За этим, однако, следовали специальные разъяснения, что пакт не направлен против какой-либо третьей страны, т.е. СССР. Несомненной дипломатической ошибкой было упоминание секретных соглашений в рамках пакта, наличие которых в заявлении категорически отрицалось, хотя об их существовании знали заинтересованные лица и не переставала твердить иностранная пресса. Заявления снова показали разность подходов и намерений сторон: Япония подчеркивала политический характер пакта, Германия – идеологический.
Реакция на Антикоминтерновский пакт в Японии, в отличие от Германии, была разноречивой и порой критической, несмотря на цензурные ограничения. Его положения представлялись расплывчатыми, выгоды от него – туманными, а ущерб в виде срыва подписания рыболовной конвенции – очевидным. [179]Он стал одной из причин падения кабинета Хирота, который явно досадовал на то, что пакт был подписан при нем. Только Арита продолжал по необходимости защищать пакт: подчеркивать его «всемирное» и «эпохальное» значение, пугать угрозой мировой революции и «советизации» Китая (для японцев это звучало более конкретно, а потому убедительно) и в то же время разъяснять, что соглашение направлено исключительно против многоглавой гидры зловещего Коминтерна. В заключение речи по радио 5 января 1937 г. он отвечал критикам, подразумевая советскую и леволиберальную пропаганду: «Некоторые придерживаются необоснованного мнения, что Япония, заключив соглашение с Германией, вступила в так называемый «фашистский блок» и намеревается превратить свой государственный строй в фашистский режим. Японо-германское соглашение, предусматривающее не более чем сотрудничество двух стран против деятельности Коммунистического Интернационала, не имеет никакого отношения к государственному строю, форме правления или механизмам власти Германии, пусть даже в ней правят нацисты. Кроме того, у Японии свой собственный государственный строй… Те же, кто говорит о вхождении Японии в фашистский блок или о ее фашизации, имеют самые превратные представления о нашем государственном строе и форме правления». [180]Выступая с программной речью в парламенте 21 января, он снова твердил об угрозе Коминтерна, политика которого «не только несовместима с нашим государственным строем, но противна самой человеческой природе», и о необходимости «совместной защиты» от нее, особенно упирая на активизацию «красных» в Китае в свете наметившегося сотрудничества между Гоминьданом и коммунистами. Одновременно Арита говорил о важности нормальных отношений с СССР, но упорно перекладывал на Москву ответственность за имеющуюся напряженность. Показной оптимизм, которым было проникнуто выступление министра, выглядел неубедительно перед лицом неминуемо надвигавшегося правительственного кризиса, что хорошо видно из материалов обсуждения пакта в парламенте уже после его подписания и вступления в силу. [181]Похоже, Арита, которого современники прозвали «хамелеоном», решил, по японской пословице, убить «одним камнем двух птиц», но явно недооценил последствия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: