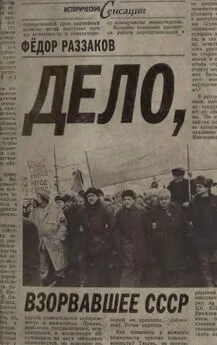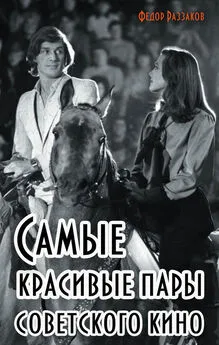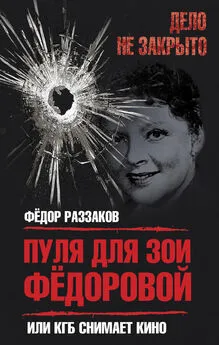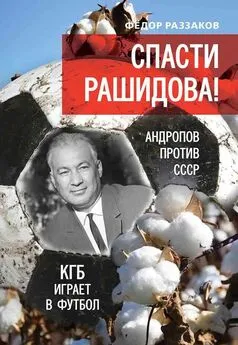Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР
- Название:Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:М.: Алгоритм, 2013. - 416 с.
- Год:2013
- ISBN:978-5-4438-0307-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Раззаков - Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР краткое содержание
В книге рассказано о неизвестных страницах горбачевской катастройки, которая победила не в последнюю очередь с помощью кинематографических чернухи и порнухи, заполнивших экраны страны и умы зрителей по заказу перестройщиков из ЦК КПСС. Не случайно разрушители великой державы первым делом взялись за «важнейшее из всех искусств» — советское кино. Придя к власти на V съезде Союза кинематографистов СССР в мае 1986 года либералы заполучили индустрию кино в свое безраздельное пользование, после чего переориентировали ее так, что она стала одним из мощнейших орудий в их разрушительных планах. Читатель узнает, как это было: в этой книге все названы поименно.
Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зрителя тоже надо понять. Когда он знает, что ничего такого, что его волнует, тревожит, он в кино все равно не увидит, не услышит и не испытает, он, простите, невольно начинает смотреть на кино как на «киношку», от которой ничего хорошего, настоящего и серьезного не жди. А что такое «Не ходите, девки, замуж», «Пришла и говорю», «Одиночное плавание» и т. д. и т. п., как не самая разнастоящая «киношка», потрафляющая вкусам и ожиданиям?!»
Прервем на время философа для короткой ремарки. Исходя из постулата, что о вкусах не спорят, оставим на его совести оценки вышеперечисленных картин — ну не нравится ему подобное кино, что поделаешь. Но как быть с тем, что все эти фильмы стали лидерами проката и собрали: «Пришла и говорю» (1985) — 25 миллионов 700 тысяч зрителей, «Не ходите, девки, замуж» (1985) — 29 миллионов 400 тысяч, «Одиночное плавание» (1986) — 37 миллионов 800 тысяч?
Даже если учитывать, что не все из тех зрителей, кто посмотрел эти фильмы, остались довольны увиденным, все равно число тех, кому эти фильмы понравились, значительно больше. Теперь философ пусть объяснит, что плохого в том, что у десятков миллионов людей после просмотра упомянутых лент поднялось настроение, возросло чувство патриотизма к своей родине, а в госбюджет добавилось несколько десятков миллионов рублей? Что в этом плохого? Ведь все эти фильмы пусть и масскульт, но вполне добротный и полезный. Например, в «Пришла и говорю» — это песни Аллы Пугачевой, причем многие из них очень даже актуальные, проблемные, а в «Одиночном плавании» — пропаганда патриотизма. Неужели американский фильм «Рэмбо-3», где герой Сильвестра Сталлоне десятками убивает советских солдат в Афганистане, лучше? А ведь это кино пришло на смену «Одиночному плаванию»: в 1989 году «Рэмбо-3» в СССР был одним из самых популярных в разряде видео. И лично я что-то не помню, чтобы В. Толстых поднимал по этому поводу шум в печати.
Уверен, что, если бы тогда советский кинематограф выпустил в свет «Одиночное плавание-2», где уже советские морпехи с таким же азартом «мочили» бы американцев, успех у него был бы не меньший, чем у «Рэмбо», поскольку патриотически настроенной молодежи в те годы тоже было предостаточно. Однако именно либералы намеренно загоняли ее в гетто антипатриотизма и нигилизма, чтобы в назначенный «час X» она оказалась деморализованной.
Между тем свои размышления В. Толстых завершает следующим образом: «Я думаю, нисколько не утратила своей силы закономерность, выведенная когда-то Марксом: предмет искусства формирует публику, способную наслаждаться красотой… Зритель полон ожидания искусства, которое бы его захватило и потрясло правдой жизни, абсолютной честностью в постановке волнующих его вопросов и проблем…»
Вот такие красивые перлы выдавали нам в перестройку ее «прорабы». И, что самое обидное, народ их заглатывал (как бы теперь выразились, «пипл хавал»). А надо было бы взять в руки дубину и хорошенько отдубасить ею этих доморощенных философов, которые за громкими фразами о красоте такого ужаса наворотили, что мало где встретишь. И при этом Марксом прикрывались. Хотя тот на самом деле имел в виду совсем иную красоту, а не ту, которую явил миру перестроечный кинематограф с его «интердевочками», «маленькими верами», «тварями», «бля», «катафалками» и прочим искусством из разряда шокового. Во многом именно эта «красота» и довела в итоге людей до того озверения, что они собственными руками сломали все, что столько десятилетий в крови и поту строили их предки.
Осенью того же 89-го в «Литературной газете» литературный критик Владимир Бондаренко весьма точно охарактеризовал сложившуюся тогда ситуацию: «Массовая культура эпохи застоя была гораздо безвреднее для человеческой души, чем нынешняя, перестроечная. Людям надо задуматься, что ждет наших детей в атмосфере тотального развращения…»
Люди не задумались, предпочитая верить сладкоречивым философам-либералам вроде В. Толстых или кинокритикам вроде А. Плахова, которые на самом деле были типичными перевертышами. До перестройки они всячески разоблачали нравы буржуазного Запада, а после — с таким же рвением взялись переносить эти нравы на советскую почву. Например, Плахов в 1985 году выпустил книгу с характерным названием «Западный экран: разрушение личности». В перестройку он уже подобных книг не писал, что понятно: вмиг лишился бы своего поста в секретариате СК. Кстати, пост был весьма «хлебный» — Плахов отвечал за фестивальное кино и чуть ли не месяцами пропадал за границей.
Именно Плахов выступил против позиции Говорухина, опубликовав в газете «Советская культура» статью «Зачем я не Спилберг?». В ней он напрочь отметал обвинения режиссера по адресу СК и апеллировал к объективным причинам падения зрительского интереса к большому кинематографу: дескать, и видео с ТВ стремительно наступают, и кинопрокат разваливается, и советское жанровое кино не чета западному, и т. д. Но все это был камуфляж, должный отвести обвинения в развале кинематографа от либерал-реформаторов.
Например, стенания о развале проката слышать было странно, поскольку именно действия киношных либералов его и вызвали. Все это входило в их проект по переводу кинематографа на рыночные отношения и существенному урезанию функций Госкино. Поэтому прежняя система кинопроката была обречена на уничтожение практически сразу, как стала внедряться в жизнь «базовая система» либералов.
Как мы помним, рыночные отношения в кинопрокатной сфере начались в самом конце 88-го, когда на 1-м Всесоюзном кинорынке прокатчикам было разрешено покупать фильмы, а не получать их по разнарядке. Однако уже тогда наметилась тревожная тенденция, когда внимание покупателей стала привлекать в основном западная низкопробная «развлекуха» (она сулила мгновенную прибыль), а советские фильмы в подавляющем большинстве оставались за бортом.
В итоге даже многие либералы забили по этому поводу тревогу. Но руководители СК их успокоили: дескать, рынок все «устаканит», будет все как на Западе. В либеральной среде это вообще модно — в качестве эталона брать именно Запад. Хотя тот шел к рынку в течение столетий, а советские либералы решили осуществить этот путь за… пару-тройку лет, руководствуясь лозунгом Горбачева об ускорении и напрочь забыв старую русскую поговорку «Что для немца хорошо, то для русского — смерть».
Ведь на чем строится западный кинопрокат? Там между продюсерами и кинотеатрами есть посредники: торговые агенты и прокатные фирмы. Фильм не продается кинотеатрам, а как бы передается в аренду на определенный срок. После этого срока, подсчитав доходы и заплатив налоги, оставшаяся сумма делится между прокатчиками, причем последним свою долю получает продюсер. Далее идет прокат фильма по ТВ, на видео.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: