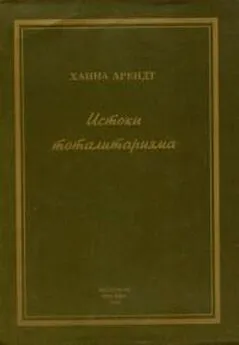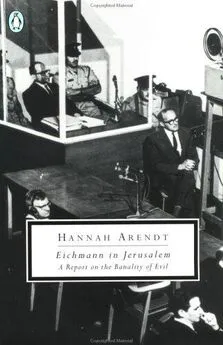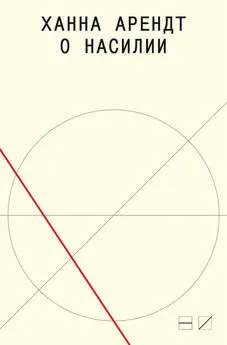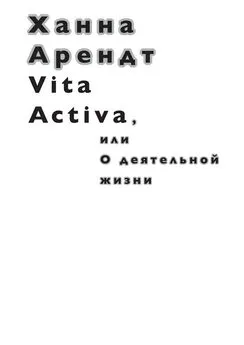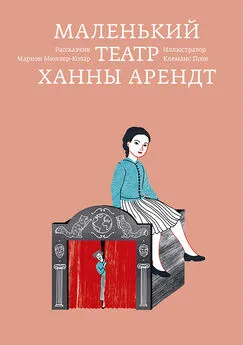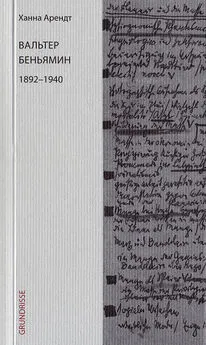Ханна Арендт - Истоки тоталитаризма
- Название:Истоки тоталитаризма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЦентрКом
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-87129-006-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ханна Арендт - Истоки тоталитаризма краткое содержание
Данная книга — первое издание на русском языке всемирно известной ученой, философа и политолога, — Ханны Арендт. В ней исследуются истоки, условия формирования и принципы функционирования тоталитарного общества.
Автором предложено оригинальное и всесторонне обоснованное определение термина «тоталитаризм».
Адресовано специалистам и широкому кругу читателей.
Истоки тоталитаризма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Более того, объяснение, данное Хрущевым тем преступлениям, которые он признал, — болезненная подозрительность Сталина — скрывает наиболее характерный аспект тоталитарного террора, заключающийся в том, что его развязывают, когда уничтожена всякая организованная оппозиция и тоталитарный правитель знает, что ему уже нечего опасаться. Это особенно верно относительно того, что происходило в России. Сталин начал свои гигантские чистки не в 1928 г., когда признал, что «у нас есть внутренние враги», и когда действительно имел основания чего-то бояться (он знал, что Бухарин сравнивал его с Чингисханом и что тот был убежден: политика Сталина «вела страну к голоду, разрухе и полицейскому режиму»), [6] Tucker R. С. Op. cit. P. XVII–XVIII.
а в 1934 г., когда все бывшие оппозиционеры «признали свои ошибки» и сам Сталин на XVII съезде партии, названном им также «съездом победителей», заявил: «…на этом съезде — и доказывать нечего, да, пожалуй — и бить некого». [7] Сталин И. В. Соч. Т. 13. С. 347. Абдурахман Авторханов (в работе "Царствование Сталина", опубликованной под псевдонимом Уралов в Лондоне в 1953 г.) говорит о тайном совещании Центрального Комитета партии, состоявшемся в 1936 г. после первых показательных процессов, где Бухарин будто бы обвинил Сталина в превращении партии Ленина в полицейское государство и был поддержан двумя третями членов ЦК. Это сообщение, особенно в том, что касается мощной поддержки Бухарина в Центральном Комитете, не представляется достоверным. Но даже если оно достоверно, тот факт, что это совещание состоялось в разгар Большой Чистки, свидетельствует не о наличии организованной оппозиции, а об обратном. Суть дела, как справедливо отмечает Файнсод, "заключается в том, что массовое недовольство", особенно среди крестьян, было совершенно обычным явлением и что вплоть до 1928 г., "до начала первого пятилетнего плана, забастовки… не были необычным явлением", однако подобные "оппозиционные настроения никогда не фокусировались в какую-либо форму организационного вызова режиму", а к 1929 или 1930 г. "исчезла всякая организационная альтернатива" (см.: Fainsod М. Ор. cit. Р. 449 ff.).
Нет никакого сомнения ни в сенсационном характере, ни в решающем политическом значении XX съезда партии для Советской России и для коммунистического движения в целом. Однако это именно политическое значение; свет, который проливают официальные источники после сталинской поры на то, что происходило в предшествующий период, это не свет правды.
Если говорить о нашем знании сталинской эпохи, то публикация Файнсодом смоленского архива, которую я уже упоминала, остается, несомненно, самой важной публикацией, и очень жаль, что за этой первой, во многом случайной, выборкой до сих пор не последовали более обширные публикации данного материала. Судя по книге Файнсода, мы можем многое узнать о борьбе Сталина за власть в период середины 20-х годов: нам сейчас известно, насколько шатким было положение партии, [8] "Самое удивительное, — как замечает Файнсод, — заключается не столько в том, что партия победила, сколько в том, что ей вообще удалось выжить" (Op. cit. Р. 38).
причем не только потому, что дух открытой оппозиции преобладал в стране, но и в силу того, что партию разъедали коррупция и пьянство; отчетливо выраженный антисемитизм сопровождал почти все требования либерализации; [9] Сообщение 1929 г. говорит о сильных антисемитских вспышках во время собрания (Ibid. Р. 49 ff.). Комсомольцы "в зале молчали… Впечатление было такое, что они все согласны с антиеврейскими заявлениями" (Р. 445).
движение за коллективизацию и раскулачивание, начавшееся после 1928 г., в действительности прервало нэп — новую экономическую политику Ленина, а вместе с этим прервало начавшееся примирение между народом и его правительством; [10] Все сообщения, относящиеся к 1926 г., показывают значительный "спад числа контрреволюционных выступлений, что является своего рода свидетельством временного перемирия, которое режим заключил с крестьянством". В сопоставлении с сообщениями 1926 г. сообщения, относящиеся к 1929–1930 гг., "читаются как сводки с полыхающей передовой" (Р. 177).
этим мерам яростно и единодушно сопротивлялся весь класс крестьянства, решивший, что «лучше не родиться, чем вступить в колхоз», [11] Ibid. Р. 252 ff.
и не соглашавшийся быть разделенным на богатых, середняков и бедняков для того, чтобы его подняли против кулаков — [12] Ibid. Особенно см. Р. 240 ff. и 446 ff.
«есть кто-то, кто хуже этих кулаков и кто думает только о том, чтобы затравить людей»; [13] Ibid. Все эти высказывания взяты из сообщений ГПУ. См. особенно Р. 248 ff. Очень характерно, однако, что подобные замечания становятся гораздо более редкими после 1934 г., начала Большой Чистки.
ситуация была не намного лучше в городах, где рабочие отказывались сотрудничать с профсоюзами, находившимися под контролем партии, и называли представителей руководства «отъевшимися чертями», «лживыми паразитами» и т. п. [14] Ibid. Р. 310.
Файнсод справедливо отмечает, что эти документы отчетливо демонстрируют не только наличие «широко распространенного массового недовольства», но и отсутствие какой-либо «достаточным образом организованной оппозиции» режиму в целом. Он не замечает вместе с тем того — это, по моему мнению, столь же наглядно показывают свидетельства, — что существовала очевидная альтернатива захвату власти Сталиным и трансформации однопартийной диктатуры в тотальное господство, которая заключалась в продолжении политики нэпа, какой она была инициирована Лениным. [15] Эту альтернативу обычно не замечают в литературе вследствие понятного, но исторически неправомерного убеждения в более или менее плавном развитии процесса перехода от Ленина к Сталину. Действительно, Сталин почти всегда говорил, пользуясь ленинской терминологией, так что иногда складывается впечатление, будто единственное различие между двумя этими людьми заключалось в грубости характера или "паранойе" Сталина. Было ли это сознательной хитростью со стороны Сталина или нет, суть дела заключается, как справедливо отмечает Такер, в том, что "Сталин наполнял эти старые ленинские понятия новым, отчетливо сталинским содержанием… Главной отличительной чертой было совершенно неленинское выделение заговора в качестве основного признака современной эпохи" (Op. cit. P. XVI).
Более того, меры, принятые Сталиным при введении первого пятилетнего плана в 1928 г., когда он обладал почти полным контролем над партией, подтверждают, что превращение классов в массы и соответственно искоренение всякой групповой солидарности являются условием sine qua non тотального господства.
Что касается периода никем не оспариваемого правления Сталина, начиная с 1929 г., то смоленский архив, как правило, подтверждает то, что нам было известно из менее надежных источников. Это верно даже относительно его некоторых странных пробелов, особенно тех, что касаются статистических данных. Ведь эти пробелы лишь подтверждают, что в этом отношении, как и в других, сталинский режим был безжалостно последовательным: все факты, которые не согласовывались или, возможно, не могли бы согласовываться с официальными фикциями, — данными об урожаях, преступности, действительными случаями «контрреволюционной» деятельности, отличавшимися от более поздних фиктивных заговоров, — рассматривались как нефакты. С тоталитарным презрением к фактам и реальности в полной мере согласуется то обстоятельство, что все данные, вместо того чтобы собираться в Москве из всех уголков огромной территории, сначала доводились до сведения тех или иных местностей посредством публикаций в «Правде», «Известиях» или в каком-то другом официальном органе в Москве, так что всякая область и всякий район в Советском Союзе получали свои официальные фиктивные статистические данные во многом подобно тому, как они получали не менее фиктивные задания по пятилетним планам. [16] Fainsod М. Op. cit. Особенно см. Р. 365 ff.
Интервал:
Закладка: