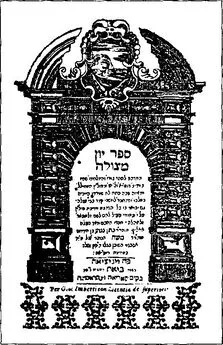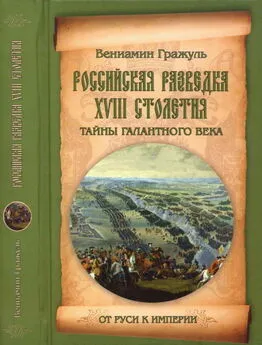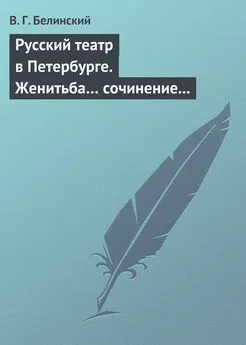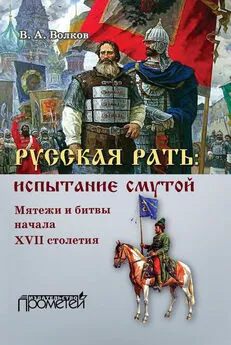Саул Боровой - Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»
- Название:Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гешарим
- Год:1997
- Город:Иерусалим
- ISBN:5-88711-015-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Саул Боровой - Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины» краткое содержание
Основной корпус книги содержит наиболее яркие свидетельства современников и очевидцев «хмельничины» — страшного разгрома большей части еврейских общин Восточной Европы в 1648–1649 гг. Хроники Натана Ганновера «Пучина бездонная», Мейера из Щебржешина «Тяготы времен» и Саббатая Гакогена «Послание» были уже через два — три года после описываемых событий опубликованы и впоследствии многократно переиздавались, став не только важнейшим историческим источником, но и страстным призывом к тшуве — покаянию и нравственному возрождению народа. Подобное восприятие и осознание трагедии эпохи стали основой духовного восстановления нации.
«Хроники», впервые издаваемые на русском языке в полном объеме, были подготовлены к печати еще в середине 1930-х гг. выдающимся историком С.Я. Боровым, но не пропущены советской цензурой в достопамятном 1937 году. И только сейчас, по случайно сохранившейся верстке, эта книга выпускается издательством «Гешарим».
Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Каждый член общины чувствовал на себе длинную и цепкую руку кагала. Кагал следит за его поведением, контролирует его деятельность, всячески «опекает» каждый его шаг и в значительной мере определяет его материальное благополучие. Кагал может его задушить поборами, разорить, отняв «хазаку», предать «херему», превратив этим в подлинного изгоя, и т. д.
Кагал обладал значительной полицейско-административной властью. Достаточно вспомнить пресловутую «куну», т. е. цепи, в которые по приговору кагала заковывались провинившиеся члены общины; кагал и находившиеся под его контролем судебные органы широко применяли и денежные штрафы, и телесные наказания (экзекутором выступает кагальный служка), и тюремное заключение (в специальных карцерах). Государственная власть передоверила таким образом главарям еврейской общинной организации не только фискальные функции, но и задачи полицейского надзора над еврейскими массами. Для последних польская государственная власть олицетворялась почти полностью еврейскими кагальными заправилами и чиновниками.
Неподсудными кагалам были только богатые евреи — крупные арендаторы и откупщики. На них, состоявших под покровительством крупнейших магнатов, юрисдикция кагала не распространялась. Они не платили и еврейских податей, усугубляя этим еще больше тяжесть обложения для еврейских народных масс.
Играя важнейшую роль в социальном быту еврейства, кагалы не могли не обратиться в арену столкновений между различными классовыми прослойками еврейского населения. Раскладка налогов, распределение «хазак», выселение пришлых элементов и т. д. — все это происходит зачастую в обстановке ожесточенной борьбы. Но еврейским социальным низам в условиях феодальной государственности, естественно, не удается уничтожить в общинах монополию власти эксплуататорской верхушки еврейского общества.
Цепко держась за свою гегемонию в общинных организациях, богатая верхушка еврейства не только опирается на прямую поддержку государственной власти: в борьбе со всякими проявлениями оппозиции она широко использует авторитет кагала как «всенародного» (всееврейского) органа. Не следует забывать, что кагал выполнял не только светские, но и чисто религиозные функции. На него возложено было удовлетворение всех потребностей религиозного быта (приглашение раввинов, синагога, кладбища, духовная школа и т. д.). Это одно, если вспомнить роль религии в еврейской жизни тех лет, чрезвычайно укрепляло и «освящало» позиции кагала. Наряду с этим кагал выступает как представитель «общееврейских» интересов в борьбе с магистратами, защищая права местного еврейского населения от всевозможных нападок со стороны мещанства, церковных властей и т. д.; особенно энергично подчеркивается кагалом эта его роль защитника национальных интересов в моменты очередных еврейских бедствий (ритуальные наветы, погромы и т. д.).
Эту же цель всяческого укрепления авторитета кагала как национальной организации преследовала и широко развитая социальная деятельность: всевозможные благотворительные мероприятия; торговая и санитарная инспекция; демагогические попытки «справедливого» регулирования конкуренции среди арендаторов, торговцев, ремесленников и т. д.
Как мы узнаем из дальнейшего изложения, в годы крестьянской войны, когда авторитет кагальной организации находился под особой угрозой, общинные заправилы прибегают к довольно широким социальным маневрам, обнаруживая большую политическую гибкость.
Следует здесь же отметить, что никогда авторитет кагальной организации не стоял на такой высоте, никогда в его руках не было такой значительной реальной власти, как в десятилетия, предшествующие национально-классовой борьбе на Украине в XVII в. [21] Из довольно значительной литературы, посвященной кагальной организации, отметим здесь статьи М. Балабана, М. Вишницера, П. Марека и И. Шиппера в «Истории еврейского народа» (изд. «Мир», т. XI, Москва, 1914) и единственную советскую работу на эту тему: Т. Гейликман «История общественного движения евреев в Польше и Литве», Москва, 1930, стр. 222-269
Эта «еврейская автономия» с ее официальными общинами на местах и «ваадом четырех стран», являвшаяся позже предметом гордости и вожделений еврейских националистов из буржуазного и мелкобуржуазного лагеря, во много раз увеличила обособленность еврейских масс от окружающего населения и в значительной мере определила размеры той катастрофы, которая обрушилась на массы еврейского населения, неповинные в жестокой эксплуатации «хлопов» панами-поляками и евреями-арендаторами городов и имений.
Внутри этой еврейской общины, как мы указывали выше, шла классовая борьба, ибо еврейство и тогда уже было социально дифференцировано, и существовали противоречия интересов между эксплуататорскими верхами еврейства, этими подлинными союзниками польского панства в деле эксплуатации хлопа, и незначительным еврейским плебсом, который (правда, иначе, чем хлопы) также подвергался эксплуатации со стороны богатой верхушки еврейства, заправил «еврейской автономии». Поэтому, как мы увидим дальше, еврейские хронисты то здесь, то там отмечают непосредственное активное участие в крестьянской войне представителей еврейского плебса, еврейской юродской бедноты на стороне хлопов. Но в силу незначительности этой социальной прослойки классовая борьба внутри еврейства в ту пору не приняла таких острых форм, чтобы в этот период взрыва всех противоречий в польском феодальном обществе изнутри взорвать так называемую «еврейскую солидарность». Еврейские массы остались прикованными к той колеснице, которой руководили евреи-арендаторы, союзники польских панов.
Организованное в польском феодальном государстве как сословие, в верхушке своей пользовавшееся большими привилегиями со стороны феодального государства, еврейство в общественном мнении хлопов фигурировало как сословие, союзное правящему польскому панству. Украинский мещанин выступил против еврея-торговца в силу непосредственных экономических интересов, стремясь убрать с дороги конкурента. Украинский хлоп поднялся против «панов» и «жидов», и это было понятно, так как паны считали «жидов» своими союзниками (и это было верно в отношении правящей в еврейских общинах богатой верхушки), а хлопы считали это «единое еврейство» своим врагом, перенося на всех евреев свою законную ненависть к арендаторам. Католическая и иудейская веры в глазах православного украинского хлопа были внешними признаками, которые определяли лагерь его врагов. Восставший хлоп обращался к массе евреев с требованием перейти в его, хлопскую, веру и расправлялся со всей жестокостью с еврейской массой, единоверной с арендаторами-эксплуататорами украинского хлопа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: