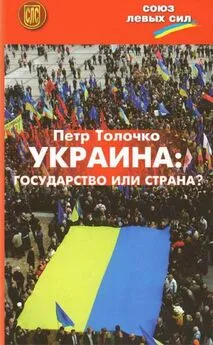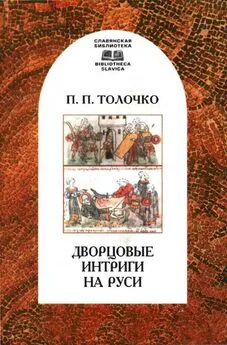Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века
- Название:Власть в Древней Руси. X–XIII века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-91419-449-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Толочко - Власть в Древней Руси. X–XIII века краткое содержание
В книге исследуются основные властные органы древнерусской государственности X–XIII вв.: князь, вече, дума, тысяцкий, воевода, посадник. Тема эта — одна из наиболее дискутируемых в отечественной историографии. Главный вопрос, на который историки пытались найти ответ, заключался в том, имели ли названные управленческие структуры институциональное содержание. Приходили к разноречивым суждениям, иногда вообще отрицающим государственный статус Древней Руси.
Анализ имеющихся письменных источников позволил автору обосновать вывод, что власть в Древней Руси, будучи хорошо структурированной, определенно имела институциональный характер. Она вполне сопоставима со средневековой европейской правительственной системой. Подтверждением этому является то, что древнерусская власть оказалась способной обеспечить восточнославянскому обществу юридически регламентированный распорядок жизни, очертить его территориальные пределы и защитить их, а также поддерживать договорные межгосударственные отношения.
Власть в Древней Руси. X–XIII века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И совсем невероятно видеть в убийстве Игоря некое ритуальное языческое действо, которое, будто бы, проявилось в сдирании убийцами одежд с Игоря (« И тако изъ свиткы изволокоша и(его — П.Т. )»), а также в его предсмертных рассуждениях. [496] Фроянов И. Я. Древняя Русь. — С. 293–295.
Внимательное прочтение летописи не дает для такого экзотического предположения и наименьшего основания. Здесь скорее мученическая смерть благочестивого христианина от клятвоотступников, но также христиан.
« Почто яко разбойника хощете мя убити? Аще крестъ цѣловалѣ есте ко мне?» — вопрошал Игорь. Своих убийц он назвал окаянными, которые не ведают, что творят, а вече — «лукавым и нечестивым собором». Для летописца Игорь «добрый поборник отечества своего», который « съвлѣкся ризы тлѣнного человѣка, и в нетлѣньную и многострастьную ризу оболокъся Христа». [497] ПСРЛ. Т. 2. — Стб. 351–353.
Не исключено, что сюжет о принятии Игорем смерти нагим и понадобился летописцу именно для того, чтобы «одеть» его в нетленную ризу Христа. « Отъ него же и вѣнцася въсприемъ мучения нетлѣнный вѣнѣчь». [498] Там же. Стб. 353.; Подчеркивая мученическую смерть Игоря летописец отметил, что его проволокли за ноги, привязав к ним веревку, от Мстиславля двора, через Бабин торжок на княж двор: «И поверзъше ужемъ за ногы уволочиша». Определенно эта подробность убийства Игоря позаимствована летописцем из Жития херсонеского святого Василия, принявшего мученическую кончину подобным образом. «Невѣрніи же разъгнѣвашася, емше его и связаша, и повергъши его за ногу влечаху и по граду біюще, и тако влачимь предаде душю». Фактически летописная фраза повторяет житийную. (См.: Верещагин Е. М. Древнейшее славяно-русское богослужебное последование на память священномучеников епископствовавших в Херсонесе Таврическом. //Очерки истории христианства Херсонеса. СПб 2009. — С. 76.).
Особый интерес для определения роли и места веча в политической жизни Руси имеет свидетельство Ипатьевской летописи 1148 г. о вече в Новгороде. Инициатором его созыва был великий киевский князь Изяслав Мстиславич, прибывший в Новгород к сыну Ярославу. В начале он устроил торжественный обед, на который через подвойских и биричей пригласил, как пишет летописец, новгородцев « отъ мала и до велика». Затем, на следующий день, велел собрать вече. « Наутрии же день пославъ Изяславъ на Ярославль дворъ; и повелѣ звонити вѣче». [499] Там же. — Стб. 370.
Судя по тому, что на участие в нем собрались не только новгородцы, но и псковичи, созывал их не только вечевой колокол, но и специальные гонцы, возможно, те же самые подвойские и биричи.
Как и годом раньше в Киеве, Изяслав обратился к новгородскому вечу за поддержкой в походе на Юрия Долгорукого, который чем-то обидел новгородцев. « И рече имъ: „Се, братье, сынъ мой и вы прислалися есте ко мнѣ, оже вы обидить стрый мой Гюрги, на нь есмь пришелъ сѣмо, оставя Рускую землю, васъ дѣля и вашихъ дѣля обидъ“». [500] Там же.
Вечники выразили полную готовность идти на Долгорукого, заявив при этом Изяславу: « Ты нашь князь, ты нашь Володимиръ, ты нашь Мьстиславъ, ради с тобою идемъ своихъ деля обидъ». [501] Там же.
Из содержания данного свидетельства отчетливо видно, что военный поход, в котором должно было принять участие большое число воев, требовал согласия вечевого собрания. Его решения оказались обязательными не только для новгородцев и псковичей, но, оказывается, и для карелов, представители которых в вече не присутствовали.
Еще одно вече, содержательно близкое киевским 1068, 1146 и 1147 гг. состоялось в Новгороде в 1161 г. Недовольные тем, что князь Святослав Ростиславич посадил в Новом Торжке своего брата Давыда, новгородцы потребовали лишить последнего стола. Святослав выполнил волю новгородцев, но они, как пишет летописец, не удовлетворились этим. Собрав новое вече «на Святослава», они преступили « хрестьное цѣлование к Ростиславу(великому князю киевскому — П.Т. ) и къ сынови его Святославу». [502] Там же.
Князь находился на городище, когда к нему прискакал гонец и объявил о волнениях в городе и о намерениях людей пленить его. Что в действительности и случилось. Восставшие новгородцы « емше князя запроша в истопкѣ, а княгиню послаша в монастырь, а дружину его исковаша, а товаръ его разъграбиша и дружины его». [503] Там же.
Ю. Гранберг отнес эти собрания новгородцев к категории веч-мятежей, утверждая, что для составителя Ипатьевской летописи одним из значений слова «вече» был мятеж или события с ним связанные. [504] Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках. — С. 42–43. По существу, здесь автор развивает мысль М. А. Дьяконова, полагавшего, что «в случае разногласий, а особенно в разгар борьбы партий, совещания на вечах принимали совершенно беспорядочный характер, сближавший вечевые собрания с брожением мятежной народной толпы» ( Дьяконов М. А. Очерки. — С. 124).
Вряд ли это корректно. Веча действительно нередко заканчивались мятежами, но, определенно, не были тождественны им. Сначала сходка, обращение к вечникам и объявление им какого-то решения, а затем уже взрыв народного негодования. Такая последовательность имеет место даже тогда, когда веча как бы заранее запрограммированы на злонамеренные действия. Как, к примеру, полоцкое 1159 г. « Том же лѣтѣ светъ золъ свещаша на князя своего полочане на Ростислава на Глѣбовича, и тако приступиша хрестное цѣлование». [505] ПСРЛ. Т. 2. — Стб. 49Ф-495.
На этом совете был обсужден план: пригласить князя на братчину и там его пленить. Он не удался, поскольку из города отправился навстречу князю его детский и предупредил об опасности. « Не ѣзди, княже, вѣче ти въ городѣ, а дружину ти избивають, а тебе хотять яти». [506] Там же. Похожая расправа бояр готовилась в 1230 г. по отношению к Данилу Галицкому. Его пригласили на пир в загородный замок Вишню, чтобы там убить. Данило был уже на пути, когда навстречу ему прискакал посол от тысяцкого Демяна и предупредил об опасности. Как и в Полоцке, в Галиче коварный план убийства князя был замыслен в боярском совете.
Из летописного текста следует, что совет зол или вече собрали не рядовые полочане, а имущие, которые предполагали пленить князя на братчинном пире. В том совете были не только противники князя, но и сторонники («бяху приятеле Ростиславу»), которые предупредили его (видимо через его детского) о надвигающейся опасности.
Кроме больших общегородских вечевых сходок в летописи содержится значительное число известий о вечах менее масштабных, собиравшихся во время военных действий, будь-то осада города или военный поход. Таким, в частности, было владимиро-волынское вече 1097 г. Оно собралось во время осады Владимира войсками Володаря и Василька Ростиславичей для того, чтобы потребовать от Давыда Игоревича выдачи галицким князьям его злых советчиков Туряка, Лазаря и Василия. Как и в Новгороде, созвал их на вече колокольный звон. « И созвониша вѣче, и рекоша Давыдови людье на вѣчѣ: „Выдай мужи сия“». [507] Там же. — Стб. 242.
При этом они пригрозили князю, в случае отказа, открыть « ворота городу».
Интервал:
Закладка: