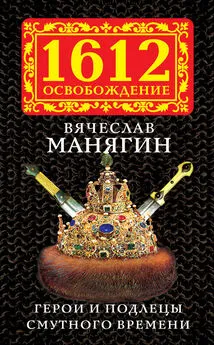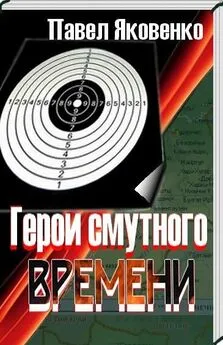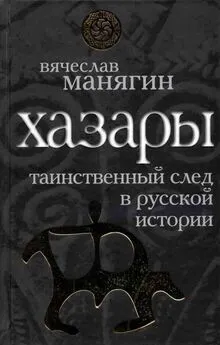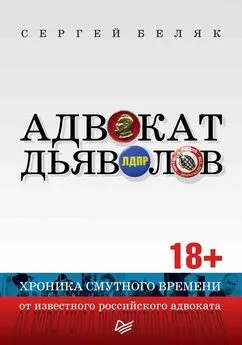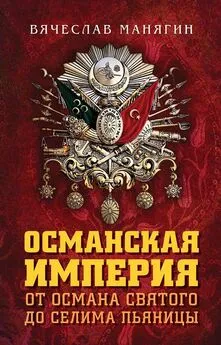Вячеслав Манягин - Герои и подлецы Смутного времени
- Название:Герои и подлецы Смутного времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Манягин - Герои и подлецы Смутного времени краткое содержание
Смутное время – одна из самых трагических страниц русской истории, наполненная политическими интригами, кровопролитными битвами, героизмом одних и предательством других. То, что мы знаем о людях времен русской Смуты из школьного учебника часто совершенно не соответствует их реальным делам. Романовы – заговорщики, одни из зачинщиков Смуты, отбивавшиеся вместе с поляками в московском Кремле от русского ополчения Минина и Пожарского, оказались, благодаря своей победе на выборах «народного царя», героями и спасителями России. Иван Болотников, ставленник зарубежных врагов Московского государства, превратился в учебнике истории в вождя крестьянского освободительного движения. Марина Мнишек – законно венчанная на царство государыня – представлена как интриганка и авантюристка. А безвинно повешенный Михаилом Романовым четырехлетний сын Марии Иван – основной претендент на московский престол – и вовсе был выброшен со страниц истории, чтобы не марать светлый образ династии Романовых. Эта книга расставит по своим местам всех героев и негодяев Смутного времени и позволит читателю понять, кто есть кто в русской истории XVII в.
Герои и подлецы Смутного времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда Болотникова разгромили, организаторы мятежа против Шуйского были вынуждены вновь воскресить «чудесно спасшегося царя Дмитрия Ивановича». Из Московской Руси прибыл на Украину, а затем в Литву (район Витебска) «царевич Петр Федорович» [110] – с целью найти кандидатуру на роль «бессмертного» царя Дмитрия и пробыл там более двух недель. Через несколько месяцев после его приезда именно в этих краях, в Стародубе Северском, объявился «царь Дмитрий» – будущий Тушинский вор [111] .
И если происхождение Дмитрия I и по сей день остается для историков загадкой, то личность Тушинского вора – загадка в квадрате. Костомаров пишет, что по иезуитским источникам этот самозванец был крещеным иудеем Богданкой, служившим секретарем у царя Дмитрия.
По показаниям рославльского воеводы Д.В. Горбатого-Мосальского, самозванец был поповский сын Митька «с Москвы… с Арбату от Знамения Пречистые из-за конюшен… умышлял де и отпускал с Москвы князь Василий Масальский» [112] .
Валишевский, уверен, что Лжедмитрий был русским – поповичем Матюшкой Веревкиным из Северской земли, либо Алешкой Рукиным из Москвы. Или даже сыном князя Андрея Курбского. Впрочем, тут же упоминает и другие возможности – чех из Праги, еврей неизвестного происхождения, сын боярский из Стародуба и Бог весть кто еще. Главное, в чем уверен (или пытается уверить читателей) Валишевский – что Тушинский вор не поляк, и вообще, Польша тут не причем.
«Все свидетельства отзываются единодушно о неприятной наружности, еще того более непривлекательном характере самозванца, неотесанности его в обращении и грубости нрава; все так же утверждают, что ни по телесным, ни по духовным качествам новый претендент не походил на первого», – пишет Валишевский. Понятно, что такой мизерабль не мог быть поляком! Хотя – есть версия, что самозванец был выдвинуть на эту роль именно благодаря своему внешнему сходству с царем Дмитрием Ивановичем, то есть, был вовсе не так дурен наружностью, как его малюет польский историк.
Мнение Валишевского о непричастности поляков к появлению самозванца опровергает другой не менее известный поляк – Сапега. По свидетельству Конрада Буссова, пьянствуя со своими офицерами во время осады Троицы, Ян (Иван) Сапега заявил: «Мы, поляки, три года тому назад посадили на московский трон государя, который должен был называться Димитрием, сыном тирана, несмотря на то, что он им не был. Теперь мы второй раз привели сюда государя и завоевали почти половину страны, и он должен и будет называться Димитрием, даже если русские от этого сойдут с ума».
Царь Михаил Федорович впоследствии писал французскому королю, что самозванец был иудей, у которого будто бы нашли Талмуд и рукописи на еврейском языке. Краткая Еврейская Энциклопедия тоже считает его евреем: «Евреи входили в свиту самозванца и пострадали при его низложении. По некоторым сообщениям… Лжедмитрий II был выкрестом из евреев и служил в свите Лжедмитрия I».
Р.Г. Скрынников так же называет его евреем, и вслед за Валишевским считает, что версия о том, что он был ставленником польских магнатов, не соответствует действительности: «Лжедмитрия II считают ставленником польских магнатов. Но это не соответствует действительности. Инициаторами новой самозваннической интриги были Болотников и «царевич Петр». Их помощниками были белорусские шляхтичи, участвовавшие в походе Отрепьева на Москву» [113] .Тушинский вор
Соглашаясь с тем, что поляки лишь воспользовались ситуацией в Московском царстве, надо указать на то, что ни Болотников, ни тем более, «царевич Петр» не имели самостоятельного значения, а являлись ставленниками боярина Телятевского и князя Шаховского, имевших, в свою очередь, сильного покровителя в Москве, который и являлся основной пружиной развития всех событий, связанных с царем Дмитрием I и с Тушинским вором.
Интересно и то, что Лжедмитрий появляется тогда же, когда Болотников начинает терпеть поражения. В июле 1607 г. царские войска разгромили его армию под Каширой. Поражение Болотникова являлось следствием отпадения от него сначала боярина Телятевского, а затем – и князя Шаховского. Из чего можно сделать вывод, что заговорщики в Москве испугались дальнейшего усиления народного движения и его выхода из-под контроля. Те, кто в действительности руководил событиями, решили отдать повстанцев на растерзание Шуйскому, и начать все сначала – с новым своим ставленником. И вот, незадолго до битвы под Каширой, в июне того же года, впервые появляется на политическом горизонте новый «Дмитрий Иванович» – как утверждают, в белорусском городке с говорящим названием Пропойск.
Точности ради надо сказать, что самозванец – кем бы он ни был – заявил о себе еще при царе Дмитрии I, называясь «всего лишь» дядей царя – Андреем Андреевичем Нагим. В Пропойске его арестовали по подозрению в шпионаже и отправили в Стародуб под конвоем. Все это свидетельствует о том, что новоявленный «царский родственник» не был местным уроженцем – иначе жители Пропойска знали бы его как облупленного. Интересно и то, что обвинили его в серьезном преступлении, но вместо допросов и пыток отправили в близлежащий крупный город, центр бывшего княжества, где он чувствовал себя совершенно свободно и даже послал агитировать по окрестностям своего подручного, назвавшегося «московским подьячим Александром Рукиным», который принялся уверять местных жителей, что царь Дмитрий Иванович жив и находится в Стародубе. Нечего и говорить, как заинтриговал он слушателей. Особенный интерес проявили жители Путивля. Недолго думая, они потребовали от «подьячего» предъявить государя или пойти под пытки. Пришлось привести путивльцев к «царскому дяде» и объявить того царем. «Нагой» сначала отпирался, но собравшиеся вокруг стародубцы и путивльцы пригрозили пытками и ему. Тогда самозванец резко сменил курс и потрясая палкой (видимо, ввиду отсутствия посоха) закричал на окружавших его людей: «Ах вы б… дети, еще вы меня не знаете: я государь!» Тут произошла патриархальная картина единения народа и власти: стародубцы пали «царю» в ноги и стали просить о прощении: «Виноваты, государь, перед тобою!». А потом принялись собирать деньги и войска для похода на Москву.
Во всей этой истории с появлением самозванца обращает на себя внимание своевременность событий. Под Москвой дворяне-союзники только бросают Болотникова, еще впереди окончательный разгром его армии, а в Пропойске уже завертелась новая авантюра и неведомая сила толкает в спину невесть откуда вынырнувшего «царского дядю», дает ему конвой, подручных, препровождает в Стародуб, позволяет дурить народ и собирать войска.
Тем временем Шуйский, решив, что после разгрома Болотникова уже ничто не омрачает небосклон его царствования, нежился на брачном ложе с молодой и хорошенькой женой, Марией Буйносовой-Ростовской, занимаясь, для разнообразия, также и совершенствованием законодательства и пытаясь хоть как-то с помощью новых законов сгладить социальные противоречия в стране. Однако он не учел, что времени у него ни на супружеские радости, ни на законотворчество уже не оставалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: