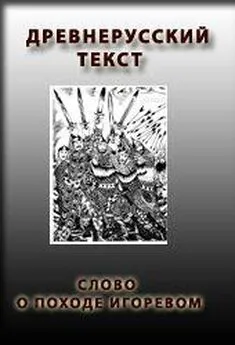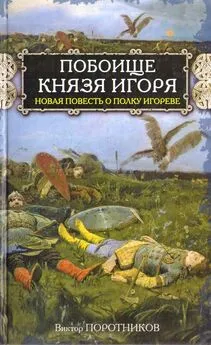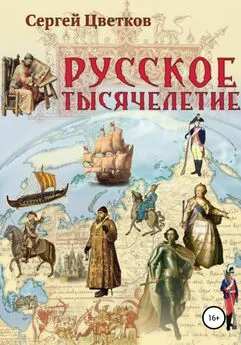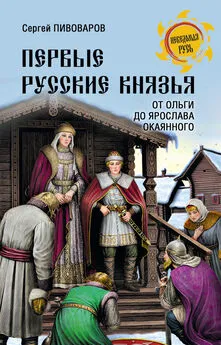Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава
- Название:Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-03441-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Цветков - Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава краткое содержание
Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков детально воссоздает картину основания династии великих киевских князей Рюриковичей, зарождения русской ментальности, культуры, социального строя и судопроизводства. Автор предлагает по-новому взглянуть на происхождение киевской династии, на историю крещения княгини Ольги и ее противоборство с сыном, на взаимоотношения русов и славян, особое внимание уделяется международным связям Древней Руси.
Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
526
Безглагольная конструкция некоторых фраз Русской Правды (напр., ст. 8 краткой редакции: «а в усе 12 гривне, а в бороде 12 гривне») характерна именно для устной речи (см.: Ларин Б.Л. Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975. С. 93).
527
По свидетельству Тацита, все, что закон взимал с преступника у древних германцев, поступало в распоряжение вождя и племенного собрания.
528
См.: Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. I. С. 246.
529
Сага об Олаве Трюггвасоне приписывает славянам обычай казни убийцы. Рассказывается, что во время пребывания мальчика Олава в Новгороде некий Клеркон убил его воспитателя. В отместку Олав поразил убийцу мечом прямо на новгородском торгу. Затем ему пришлось искать убежища в доме княгини, ибо «в Хольмгарде [Новгороде] был такой великий мир, что по законам следовало убить всякого, кто убьет неосужденного человека; бросились все люди по обычаю своему и закону искать, куда скрылся мальчик. Говорили, что он во дворе княгини и что там отряд людей в полном вооружении; тогда сказали конунгу [князю Владимиру]. Он пошел туда со своей дружиной и не хотел, чтобы они дрались; он устроил мир, а затем соглашение; назначил конунг виру, и княгиня заплатила». Но, говоря об «обычае и законе» новгородцев, сага на самом деле воспроизводит скандинавский правовой обычай. Так, закон норвежского короля Олава Святого (1014—1028) гласит: «...кто бы ни убил человека без причины, он должен быть лишен мира и собственности, и где бы он ни был обнаружен, его следует считать вне закона, от него никакое возмещение не может быть принято ни королем, ни родственниками». Зато в описании действий «конунга» Владимира историческая правда полностью соблюдена. Чужеземец Клеркон был в Новгороде изгоем, почему Владимир и обязал княгиню, взявшую под свою опеку Олава, заплатить продажу: «аще [убитый будет] изгои... то 40 гривен положити за нь», как того требует статья 1 краткой редакции Русской Правды.
530
Предание о мести Ольги «древлянам» содержит еще одну, по-видимому универсальную для всего раннесредневекового общества, формулу отказа от мести: «уже мне мужа своего не кресити [не воскресить]», которая почти дословно воспроизведена в «Песне о Роланде»: «Roland est mort. Jamais vous ne le revenez...» («Роланд мертв. Вам уже не воскресить его...») Сторонники предателя Ганелона дважды приводят этот довод во время судебного разбирательства, добиваясь от своих противников его признания, каковое, вероятно, освободило бы Ганелона от ответственности (см.: Гребенщиков В. «Деньница предъ солнцемь» (Вещая Ольга). С. 62).
531
Герой одной саги, отец убитого юноши, выразил свое отвращение к откупу в следующих словах: «Я не хочу носить моего убитого сына в денежном кошельке» (Соловьев С.М. Сочинения. С. 229).
532
Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. VI. С. 171—172.
533
«Это слово, — полагал В.О. Ключевский, — всего вероятнее, надо производить не от „искать", а от древнерусского „исто". „Исто" — любопытное слово в истории нашего языка; я не умею объяснить этимологически происхождение значения этого слова, каким оно является, например, в Святославовом сборнике XI в.: „исто" — во множ. „истеса" — почки, а также testicula (мошонка. — С. Ц.), потом „исто" — капитал, позже — истина; отсюда истовый, или истинный — настоящий, коренной, капитал; „да увемы истовааго Бога" — в Святославовом сборнике 1073 г.; „Дух истинный"... — „Дух истовый". Итак, „исто" — капитал, истец — владелец капитала, а потом — человек, имеющий притязание на известный капитал, следовательно, как тот, кто отстаивает капитал, подвергшийся спору со стороны, так и тот, кто ищет этого капитала; отсюда выражение „обои истцы". С таким двояким значением слово „истец" является уже в Русской Правде; там истец значит и тот, кто ищет на другом, и ответчик» (Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. VI. С. 170).
534
О божьем суде у западных и южных славян источники сообщают следующие подробности. В средневековой Чехии «подсудимый обязан был простоять известное время на раскаленном железе либо держать на нем два пальца до тех пор, пока совершит предписанную присягу. У сербов обвиненный должен был опустить руку в раскаленный котел либо, выхватив железо из огня при дверях храма, отнести его к алтарю. Подвергавшийся испытанию водою должен был сделать несколько шагов в глубину реки; если он при этом робел и мешался, то проигрывал дело. Здесь начало пытки» (Соловьев С.М. Сочинения. С. 231).
535
Полное название этого сочинения звучит так: «Слово святого Григория (Богословца) изобретено в толцех о том, како първое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали; то и ныне творят».
536
См.: Ветухов А. Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова // Русский филологический вестник. СПб., 1902. Вып. 1/2. С. 188.
537
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М, 1994. С. 450.
538
См.: История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. М., 1988. Ч. 2. С. 153.
539
Как отмечает В.Н. Топоров, в перечне богов, поставленных князем Владимиром в Киеве «вне двора теремного» («Перуна... и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симаргла, и Мокошь»), «имена Хорса и Дажьбога... единственные среди всех соединены (или разъединены) «нулевым» способом: между ними нет ни союза и ни точки» (Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. М., 1995. С. 526).
540
Н.М. Гальковский считал Макошь общеславянским божеством. Чехи, по его словам, «почитали Мокошь божеством дождя и сырости, и к нему прибегали с молитвами и жертвоприношениями во время большой засухи» (Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. М., 1913. Т. 1. С. 33). Но чех Л. Нидерле указал только некоторые топонимические признаки Макоши в Польше (объясняя их русским влиянием) и добавил, что «нигде более она не известна» (Нидерле Л. Славянские древности. 1.1— IV. М., 1956. Т. 11. С. 122).
541
См.: Рыбаков В.А. Язычество древних славян. С. 608.
542
См.: Топоров В.Н. Боги древних славян // Очерки истории культуры славян. М., 1996. С. 169, 173—174.
543
Подобное представление о душе сохранялось еще многие столетия после крещения Руси. Когда в 1533 г. умирал московский государь Василий III (отец Ивана Грозного), окружающие увидели, как с последним вздохом «дух его отошед, аки дымец малый». То есть они успели заметить некое облачко, отлетевшее от уст умирающего Василия. Им не померещилось — просто москвичи XVI в. все еще были уверены, что так оно и должно быть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: