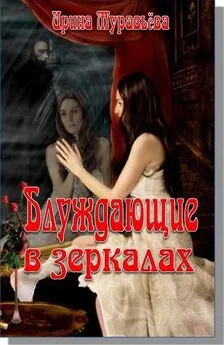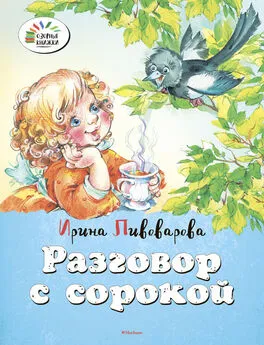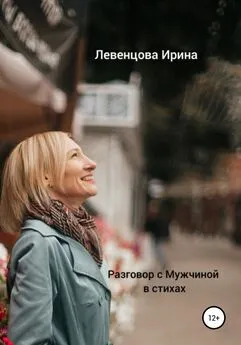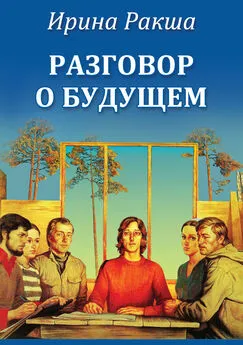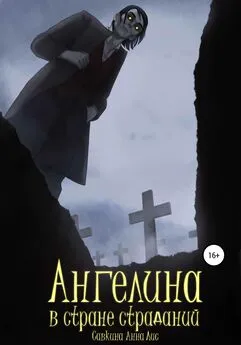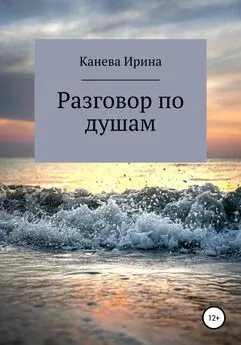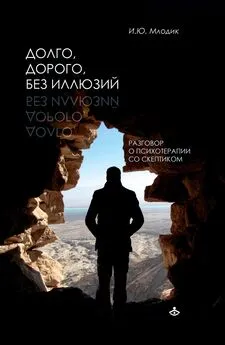Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
- Название:Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-505-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем краткое содержание
В русской культурной истории было немало женщин, которые сумели высказать и выразить себя в автодокументальных текстах (воспоминаниях, дневниках или письмах), большая часть которых была опубликована при их жизни или позже. И все же голоса этих женщин остались неуслышанными. Их тексты практически никогда не становились предметом научного интереса сами по себе, а не в качестве исторических или литературных источников для биографий знаменитых мужчин. Цель данной книги — рассмотреть, как женщины первой половины XIX века в своих дневниках, воспоминаниях и письмах пишут о себе, точнее, «пишут себя», как они обсуждают и создают приемлемые для себя модели женственности. Материалом исследования послужили среди других дневники А. Керн, А. Якушкиной, А. Олениной, мемуары Н. Дуровой, автобиография Н. Соханской, переписка Натальи Герцен с А. Герценом, Г. Гервегом и подругами.
Разговоры с зеркалом и Зазеркальем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
154
См.: Моисеева Г. Н. Записки и воспоминания русских женщин XVIII — первой половины XIX века и их культурно-историческое значение // Записки и воспоминания русских женщин XVIII — первой половины XIX века. М.: Современник; 1990. С. 6–10; Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 290–330.
155
Примером разговорности языка может послужить, например, место, где Долгорукова «цитирует» выражение из Библии (1-я Книга Царств), которое позже М. Лермонтов выбрал эпиграфом к поэме «Мцыри»: «Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю». В изложении Долгоруковой это звучит так: «Со мной так случилось, как с сыном царя Давида Нафаном: лизнул медку и пришло было умереть» ( Долгорукова Н. Б. Памятные записки княгини Натальи Борисовны Долгоруковой // Русский архив. 1867. № 1. С. 13). В дальнейшем все цитаты по этому изданию с указанием страницы в тексте).
156
Капитонова Л. А. Два лика Натальи Долгоруковой в «зеркале» исторической повести С. Н. Глинки // Российские женщины и европейская культура: Тезисы докладов II научной конференции. СПб., 1994. С. 31–32.
157
Именно подобная интерпретация «феномена Долгоруковой» — как самоотверженной образцовой жены, героически разделившей со своим мужем его мученическую участь, — была востребована литературой и стала одним из культурных стереотипов «русской женщины». Кроме повести Глинки можно назвать одну из «Дум» Рылеева, поэму И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» или упоминание о Долгоруковой в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины». См. также современную работу С. Кайдаш «Сильнее бедствия земного: Очерки о женщинах русской истории» (М.: Молодая гвардия, 1983).
158
См.: Бокова В. М. Три женщины // История жизни благородной женщины. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 28–29.
159
Модзалевский Б. Л. Предисловие // Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной 1758–1828. СПб., 1914. С. XXIII–XIX.
160
Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 301.
161
Лабзина А. Е. Воспоминания // История жизни благородной женщины. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 28. В дальнейшем все цитаты по данному изданию с указанием страниц в тексте.
162
Сокрытие семейных проблем и недостатков мужа, запрет выставлять его пороки на всеобщее обозрение, делать их достоянием пересудов в кругу «чужих» очень ясно выражены в «Домострое», где эта идея связана с концептом «позора» в прямом и переносном (позор как стыд) смысле. См.: Найденова Л. П. «Свои» и «чужие» в Домострое: Внутрисемейные отношения в Москве XVI века // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1996. С. 297–298.
163
Елизаветина Г. Г. Становление жанра… С. 246.
164
Heldt В. Terrible Perfection. Women and Russian Literature. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1987. P. 78.
165
В этом смысле я не могу согласиться с утверждением Стефании Берти, которая относит Лабзину к женщинам, «которые молча соглашались с требованиями общества и строили свою жизнь согласно традиционной роли» ( Берти С. Т. Русские женщины в XVIII веке — прабабушки эмансипации? // Российские женщины и европейская культура. Тезисы докладов II конференции. СПб., 1994. С. 50.
166
Модзалевский Б. Л. Указ. соч. С. XXIII.
167
См.: Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.). М.: Ладомир, 1997.
168
См.: Пушкарева Н. Л. У истоков. С. 64.
169
Hoogenboom Н. «Autobiographers as (Generic) Crossdressers: Catherine II, Dashkova, and Durova». Paper presented in lecture series «Russian Wbmen: Myth and Reality», at the Harriman Institute, Columbia University, New York, NY, February 2000. P. 5. О различиях между редакциями мемуаров Екатерины см. также: Clyman Т. W., Vowles J. Op. cit. P. 16. См. также: Hoogelboom Н. М.: Preface // The Memoirs of Catherine the Great: New York: Modern Library, 2005. P. xii.
170
Heldt B. Op. cit. P. 68. H. Л. Пушкарева также замечает, что Екатерина II и Дашкова относятся к женщинам, ориентировавшимся на мужские ценности, «которые никогда не забывали, что даже говоря о „мелочах жизни“, они пишут в то же время свои парадно-официальные автопортреты» ( Пушкарева Н. Л. У истоков. С. 66).
171
Heldt В. Op. cit. Р. 70–71.
172
Анисимов Е. В. Записки Екатерины II: Силлогизмы и реальность // Записки императрицы Екатерины II. М.: Книга — СП «Внешберика», 1990. С. 9.
173
Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в…. С. 123.
174
Екатерина II. Записки императрицы Екатерины II. М.: Книга — СП «Внешберика», 1990. С. 1. В дальнейшем все цитаты по этому изданию с указанием страницы в тексте.
175
Интересно, что вторым антагонистом автора в первых частях Записок является ее матушка. Жених и мать описываются как взбалмошные, капризные и неразумные дети, как противники, если не враги, героини. В отличие от записок Долгоруковой и Лабзиной, где изображаются идеализированные отношения матери и дочери, Екатерина описывает их как драматическую борьбу и соперничество. Женские воспоминания, в отличие от мужских, вообще обращают пристальное внимание на материнско-дочерние контакты.
176
Хильде Хугенбум отмечает, что эта страсть к переодеванию и выбор мужского костюма имеют не только гендерную, но и классовую, социальную природу, подчеркивая в первую очередь саму идею выбора, которая функционирует как маркер их класса (только дворяне, только принадлежащие к благородному сословию имели возможность выбора парадигмы бытового поведения) ( Hoogenboom Н. «Autobiographers as…». P. 2).
177
Woronzoff-Dashkoff A. Disguise and Gender in Princess Dashkova’s Memoirs // Canadian Slavonic Papers. Vol. XXXIII. № 1. March 1991. P. 62–74.
178
О «ролях» или «амплуа» русского дворянина XVIII века см.: Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 248–268. Там же Лотман замечает, что «наличие выбора резко отделяло дворянское поведение от крестьянского, регулируемого сроками земледельческого календаря и единообразного в пределах каждого этапа. Любопытно отметить, что, с этой точки зрения, поведение дворянской женщины было в принципе ближе к крестьянскому, чем к мужскому дворянскому, поскольку не включало моментов индивидуального выбора, а определялось возрастными периодами» (С. 253).
179
Дашкова Е. Р. Записки княгини Е. Р. Дашковой. М.: Наука, 1990. С. 8. В дальнейшем все цитаты по этому изданию с указанием страницы в тексте.
180
Woronzoff-Dashkoff A. Op. cit. Р. 68.
181
Об этом пишет: Woronzoff-Dashkoff A. Op. cit. Р. 70.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: