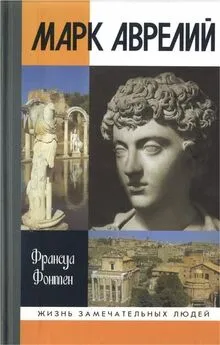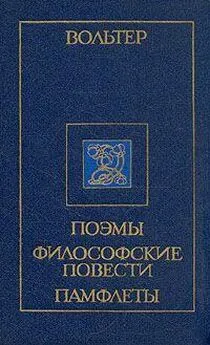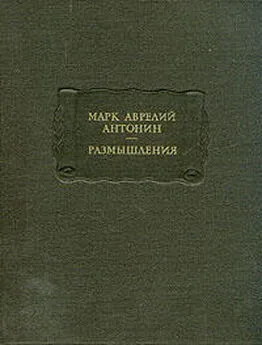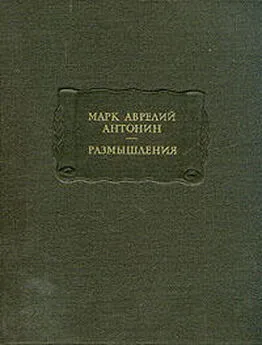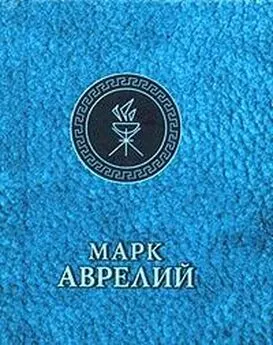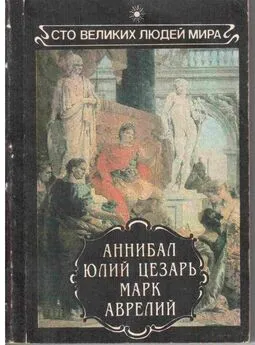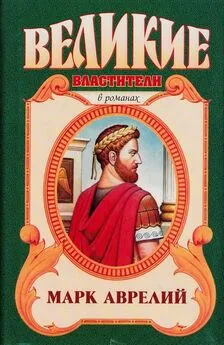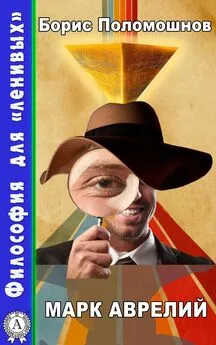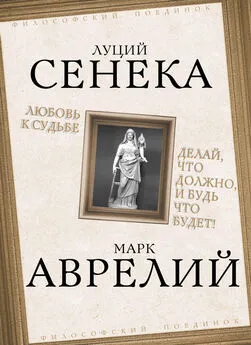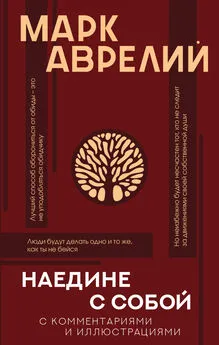Франсуа Фонтен - Марк Аврелий
- Название:Марк Аврелий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02787-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсуа Фонтен - Марк Аврелий краткое содержание
Известный профессиональный политик, автор работ «Кровь Цезарей», «Из злата бронзы», «Смерть в Селинонте» и других — Франсуа Фонтен, принимавший участие в создании современной единой Европы — Евросоюза, посвятил настоящую книгу римскому императору Марку Аврелию. Задачу автор поставил перед собой непростую: показать нам императора через анализ его удивительного и своеобразного дневника под названием «Размышления». Удачно вплетая внутреннюю историю жизни, историю души Марка Аврелия в ткань повествования, его рассуждения и мысли, он создает портрет императора-философа, императора-праведника. Перед нами предстает человек, который считает, что надо любить всех людей, даже своих врагов, человек, для которого все земные соблазны — богатство, власть, роскошь, раболепие окружающих — просто не существовали в природе.
Марк Аврелий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но почему античная государственная система не могла быть либеральной, даже не отвечая всем современным нормам демократии? В наш век тоже идут споры о соотношении формальной и реальной свободы. Разве реальными были свободы Римской республики с ее Катилинами и Клодиями? Их распри разрешил Цезарь. Можно ли считать его тираном за то, что он хотел покончить с анархическим популизмом различных группировок; а Брута, развязавшего разрушительную гражданскую войну, записать в демократы? Угнетал ли римский народ Август, самовластно положивший конец этой войне? В наших глазах истинная природа императорской системы, начало которой положил референдум 30 года до н. э., неоднозначна, но, видимо, лишь потому, что мы ставим анахронические вопросы.
Во времена Марка Аврелия римляне уже не спорили всерьез о достоинствах республиканского строя и принципата: они прекрасно приспособились к компромиссу, тщательно обоснованному Плинием и Тацитом. По словам последнего, он «совместил вещи, дотоле несовместимые, — принципат и свободу» [38] Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы, 2 / Пер. А. С. Бобовича. — Прим. пер.
. Если бы Тациту пришлось писать панегирик Антонину или Марку Аврелию, он мог бы уточнить: максимум свободы, возможной в огромном, неоднородном, политически централизованном, социально и экономически далеком от равенства обществе. Нет сомнения, что, постольку, поскольку эти оговорки не особенно замечались современниками, в сознании людей это была оптимальная демократия. Величие Марка Аврелия в том, что он не удовлетворялся пассивным консенсусом и подвергал себя непрестанной самокритике, желая убедиться, что не пренебрег ни одной из обязанностей. Но обстоятельства уже стремительно обращались против него, подрывая основы его гуманистического дела.
Необычайный правитель
Военные действия, мирные переговоры, развертывание новых вооруженных сил на Востоке, на Дунае и на Рейне не мешали Марку Аврелию усердно заниматься гражданскими делами. Хотя в его административном наследии постановления, подписанные им самим, нелегко отделить от решений, принятых лишь от его имени (эта проблема существует для всех монархов и чревата серьезным искажением исторической перспективы), можно безошибочно утверждать, что его рука видна повсюду. Мы не можем подвергать сомнению установившуюся за ним общепринятую репутацию чрезвычайно добросовестного и скрупулезного администратора. Нерону нельзя приписывать все распоряжения Бурра и Сенеки, скрепленные его печатью, но личность Траяна с первого взгляда видна и в его письмах, и в его эдиктах. Правильно это было или нет, но Антонины делегировали мало полномочий, хотя вокруг них находились чрезвычайно надежные и способные помощники. Зато внутри Императорского совета доверие к подчиненным создавало атмосферу единомыслия всех его членов во главе с председателем — принцепсом. Адриан, давший Совету статус постоянно действующего органа с функциями Государственного совета, Верховного суда и Кабинета министров одновременно, брал его с собой, колеся по дорогам Империи. Ему хватало умственных и физических сил распространять свой авторитаризм на всю административную деятельность. У Марка Аврелия не было ни данных, ни честолюбия Адриана, но и он поддался искушению самому заниматься всем.
Поддался, впрочем, нехотя. С удивлением видишь, как в «Размышлениях» не раз повторяется совет, воспринятый от первого наставника, «самому делать свое и не вдаваться в чужое» (I, 5). «Многословен… не будь», — пишет еще Марк Аврелий (III, 5). «А не лучше ли необходимое делать — столько, сколько решит разум общественного по природе существа и так, как он решит? Потому что тут будет благочувствие не от прекрасного только, но и от малого дела» (IV, 24). Он явно боится разбросанности — его с детства учили ее бояться, — и чем больше живет, тем больше бережется [39] См.: Приложение «Рассуждение о методе».
. Но в то же время он не может уйти и от требований профессиональной добросовестности, которым его учил Антонин: пребывание «всегда… на страже того, что необходимо для державы… трудолюбие и выносливость… предвидение издалека и обдумывание самых мелочей» (I, 16). Вспомним черту, сохраненную биографом: «Он отдавал целые дни незначительным делам». Поскольку очевидно, что и значительных дел император не оставлял, он изнемогал от работы. Как мы увидим, он все с большей тревогой будет стараться уберечь себя с помощью самодисциплины или бегства от дел. Все, что он станет делать, заключено в рамки этого тяжелейшего противоречия.
Как мыслитель, Марк Аврелий считал, что «вся земля — точка» (VIII, 21), «Азия, Европа — закоулки мира» (VI, 36), а как государственный человек — по примеру Антонина вникал в каждую подробность. «Ведь если бы он пренебрег хоть одной мелочью, — поясняет Дион Кассий, — он бы счел, что упрек, заслуженный им за нее, распространяется и на все остальные его дела». Это правило — одно из ключевых в морали Марка Аврелия. В его глазах все вещи во Вселенной связаны и одна нечистая частица портит все, будь то в государственном устройстве, в общественном порядке или в Космосе. Принцип всеединства действия приводит к требованию всеобъемлющей деятельности. Здесь стоицизм проявляет себя как учение о бесконечно большом и малом одновременно, что не оставляет человеку ни минуты покоя.
И притом еще мало добросовестно делать свое дело. Автор «Размышлений», как иногда кажется, склоняется к чистому стоицизму, сведенному к правилу «Делай, что должно, и будь, что будет». Но Капитолин показывает, как заботился император о последствиях своих действий, а особенно о своей личности в глазах общественности. Мы уже видели, что он «подробно выспрашивал, кто что о нем говорит». Кроме того, мы читаем, «что он ничего так не боялся, как прослыть скупым, и во многих письмах оправдывался в таких упреках», а также что, «когда прошел слух, будто некоторые под прикрытием философии угнетают Республику и ее жителей, он сам выступил их обвинителем», а «когда из-за его нелюдимости, которую приписывали занятиям философией, стали строго судить его военные походы и все его поведение, он во всеуслышание и письменно отвечал на эти упреки». Со времен Августа не случалось, чтобы правитель так слушал общество и так отвечал ему. Довольно неожиданно видеть это свойство у императора, склонного скорее к замкнутости, во времена, которые все историки характеризуют как «неуклонное сползание от принципата к доминату», то есть от ограниченной власти к абсолютной. Следовательно, следует изменить оценку весьма оригинальной природы императорской власти в последние годы ранней империи перед началом ее развала — а для этого (начало 167 года) еще не видно никаких причин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: