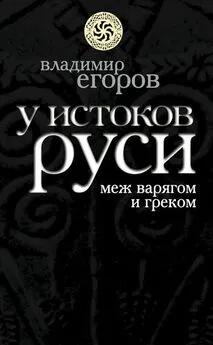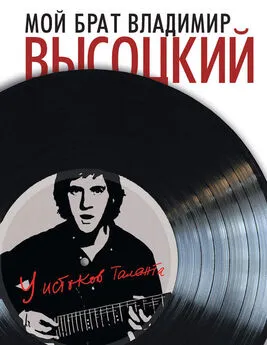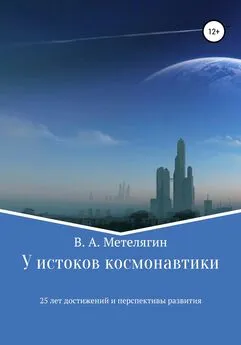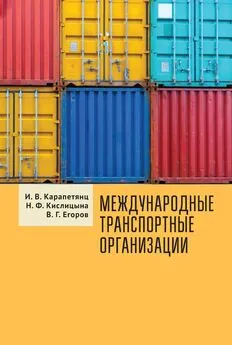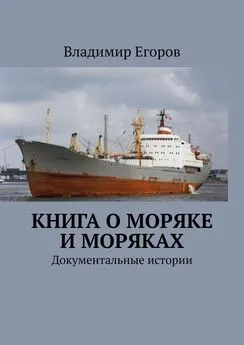Владимир Егоров - У истоков Руси: меж варягом и греком
- Название:У истоков Руси: меж варягом и греком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2010
- Город:М.:
- ISBN:978-5-699-39871-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Егоров - У истоков Руси: меж варягом и греком краткое содержание
Официальная трактовка возникновения Киевской Руси и зарождения русского народа, восходящая к так называемой Начальной летописи, неоднократно подвергалась и продолжает подвергаться критике. Данная книга – не просто очередная критика летописной традиции, «официальной» версии становления русской государственности, но попытка дать ответ на вопрос: откуда ты, Русь? Она будет интересна как массовому читателю, которому небезразлична древняя история его страны и его народа, так и специалистам, преподавателям, учащимся.
У истоков Руси: меж варягом и греком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так что когда и как разговорный неславянский русскийязык Константина Багрянородного превратился в привычный нам разговорный славянский русский, мы не знаем, и вряд ли когда-нибудь узнаем. Ясно только, что русский язык середины X века, «росский» Багрянородного, – не то же самое, что современный русский язык в еще большей степени, чем словенский рубежа XI—XII веков, язык «Повести», – не то же самое, что современный словенский язык, государственный язык Словении.
Развлечение людьем и полюдьем
« Полюдье – ежегодный объезд подвластного населения (“людей”) древнерусскими князьями, боярами-воеводами и их дружинниками в 10 – 13 вв. с целью кормления и сбора податей. П. зафиксировано в арабских (Ибн руста, Гардизи; 10 – 11 вв.), византийских (Константин Багрянородный; 10 в.) и в древнерусских (в летописях и грамотах 12 в.) источниках. По словам Константина Багрянородного, объезд людей производился в ноябре-апреле. По-видимому, князья во время П. останавливались в погостах – административно-хозяйственных центрах земель, где они кормились, а также производили суд над подданными».
Это БСЭ. Более краток, но по-своему информативен словарь Фасмера:
« Полюдие – ближайшая этимология: “подать, собираемая князем с народа”… Из др. – русск. выражения: по людьхъ…»
И. Данилевский в полном согласии с БСЭ и Фасмером, аргументируя свое понимание руси как не этнической, а социальной категории, варяжской княжеской дружины, соглашается с мнением Г. Ковалева: «Если вспомнить термин “полюдье” – сбор дани, то можно предположить, что люди – те, кто вынужден был платить дань, а русь – те, кто эту дань собирал. Среди сборщиков дани было много варягов-дружинников, поэтому социальный термин, видимо, был перенесен и на этническое название скандинавов-германцев». Таким образом, по БСЭ, Фасмеру, Ковалеву и Данилевскому, есть русь, то есть князь и его окружение, варяги-дружинники, они же скандинавы-германцы, и есть люди, то есть местные славянские аборигены, причем эта самая русь собирает дань с тех самых несчастных людей.
Но такая трактовка откровенно противоречит тексту «Повести»! Не считая употребления «Повестью» слова люди в самом общем смысле человечества и населения заморских стран, впервые это слово ее автор применяет как раз к варягам: «Те люди новгородцы от рода варяжского …». В «Повести» именно людиходят в Греческую землю, что, согласно Багрянородному, является привилегией руси, а не их данников (пактиотов) славян; именно людиоплакивают Вещего Олега «плачем великим», что также более к лицу приближенным к нему русам, нежели угнетенным славянам. Наконец, договор Игоря с греками подписывают послы, «посланные от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья, и от всех людей русской земли» . Там же: «а когда послы наши царские (византийского императора) выедут, – пусть проводят их к великому князю русскому Игорю и к его людям ; и те, приняв хартию, поклянутся истинно соблюдать то, о чем мы договорились и о чем написали на хартии этой, на которой написаны имена наши» . Из этого множества примеров, которые можно продолжить, неотвратимо следует, что люди «Повести» – юридически активные члены общества, подручные князя, а не просто быдло, годное только на то, чтобы собирать с него дань.
Возможно позиция БСЭ – Фасмера – Ковалева – Данилевского, на мой взгляд, безусловно ошибочная, подспудно базируется на априорном мнении, что слово люди исконно русское, в смысле славянское, и применимо может быть соответственно к автохтонным жителям, а не «находникам» варягам. Но и это совсем не так. Слова люд и люди отнюдь не чисто славянские, вообще не славянские по происхождению. Помимо верхненемецкого Läute (лёйте) – «люди» и древнескандинавского liđ (лиð) с тем же значением, причем в последнем случае с оттенком «способные носить оружие», в том же ряду стоит литовское liaudis (ляўдис) – «народ». Так что слово это есть в разных языках в одном и том же значении. Но кто у кого позаимствовал это универсальное слово? Для ответа на такой вопрос лингвисты смотрят на так называемую продуктивность – наличие и количество в языке словоформ с тем же корнем. Заметь себе, мой наблюдательный читатель, во всех приведенных выше примерах имеется только одна форма, выражающая по сути множественное число люди . Для единственного числа во всех названных языках имеется совсем иное слово: в русском человек (с устаревшим множественным человеки ), в немецком Mann (с множественным ограниченного применения Männer), в литовском žmogus (с множественным žmones – «люди» вне связи с laudis). И только у готов, единственных, было не только аналогичное слово leuda (леўда) (вариант liuda (люда)) – «люди, народ», но и единственное число от него leudis (liudis) – «человек». Кроме того имелась и универсальная форма leuþs (леўтс) (liuþs (лютс)) – «человек, люди». Наконец, в готском от того же корня имелся глагол leudan (liudan) – «расти, наращивать, возвышать». Так что наиболее вероятно как раз готское, а в более широком плане древнегерманское происхождение этого слова, заимствованного позднее балтскими и славянскими языками, и слово это, следовательно, должно быть применимо в первую очередь к находникам-варягам, а не автохтонам-славянам.
Здесь интересно вспомнить, что одна из трех единиц территориального деления древнего Новгорода звалась Людиным концом вряд ли по имени некой Люды. Поскольку два других конца носили этнически определяющие имена: Славенский и Неревский, – то и Людин конец, населенный, как считается, выходцами из Пруссии, дает основание предполагать, что люда (людь) было самоназванием местных насельников. Так, в частности, могли называть себя, судя по литовскому liaudis, переселенцы-прусы. Но гораздо больше, чем литовское liaudis, сюда напрашивается готское liuda (люда). Это не к тому, что в Новгороде жили готы (хотя купцы-готландцы, скорее всего, проживали и в изрядном количестве), а к тому, мой читатель-завсегдатай Баскервиль-холла, что там мог жить некий восточногерманский народ, близкий родственник готов, который называл себя людой(людье-новгородцы «Повести»!) или… чудью. Но это отдельная тема, которой мы с тобой, мой читатель-завсегдатай, уже уделяли внимание в свое время. [122]
Возвращаясь же к теме актуальной, с учетом всего рассмотренного следует признать, хотя и вопреки всему и всем: БСЭ, Фасмеру, Данилевскому и т. д., – что полюдье означало вовсе не хождение по людям, а скорее сбор оброка на содержание людей, то есть изначально руси, а впоследствии княжеской дружины как опекунов платящих оброк, данников. Идея опекунства, может быть неожиданная сама по себе, тем не менее дает путеводную ниточку к пониманию еще одного исторического термина с неясной этимологией – названию Руси Гардарики в скандинавской эпической традиции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: