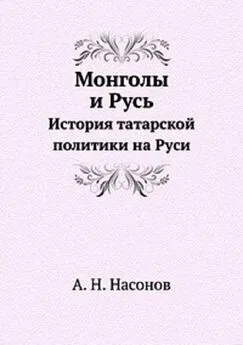Георгий Вернадский - Монголы и Русь
- Название:Монголы и Русь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф, ЛЕАН
- Год:1997
- Город:Москва, Тверь
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Вернадский - Монголы и Русь краткое содержание
«Монголы и Русь» – третья книга «Истории России» Г.В.Вернадского, посвященная периоду монголо-татарского нашествия, анализу его влияния на дальнейшие судьбы развития России. На основе обширного спектра источников автор предлагает читателю собственное видение социокультурных последствий вторжения монголов в Россию.
Монголы и Русь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда бывший приют отшельника превращался в большой, многолюдный и богатый монастырь, окруженный благополучными крестьянскими деревнями, бывшие отшельники, или новые монахи сходного духа, находили изменившуюся атмосферу удушающей и покидали монастырь, который основали или помогли расширить, чтобы устроить другой приют, глубже в лесу или дальше на север. Таким образом, каждый монастырь служил колыбелью нескольких других. Пионером и самым почитаемым главой этого движения был Св. Сергий Радонежский, основатель Троицкого монастыря примерно в 75 километрах на северо-восток от Москвы. Его святая личность вдохновляла даже тех, кто никогда не встречался с ним, и влияние дела его жизни на последующие поколения было огромным. Св. Сергий стал символом веры – важным фактором в религиозной жизни русского народа [1067] Ключевский, Очерки и речи, сс. 199-215.
. Среди других выдающихся руководителей русского иночества этой эры были Св. Кирилл Белозерский и Святые Зосима и Савватий, основатели Соловецкого монастыря на одноименном острове в Белом море. Между прочим, новые монастыри играли важную роль в колонизации северных районов Руси [1068] См. В.О. Ключевский, «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря», Опыты и исследования (2-е изд., Москва, примерно 1915), сс. 1-36.
.
Несколько северных монастырей находились на территории финно-угорских племен, и эти народы теперь тоже приняли христианство. Миссия Св. Степана Пермского среди зырян (теперь называются коми) была особенно продуктивной в этом отношении. Одаренный филолог, Степан Пермский не только овладел зырянским языком, но даже создал специальный алфавит для него, который он использовал при распространении религиозной литературы среди аборигенов [1069] О Св. Стефане Пермском см. Макарий, 4, 138-139; 5, 236-240; Голубинский, 2, 262-296.
.
Другим важным аспектом религиозного возрождения в Восточной Руси в монгольскую эру было церковное искусство. Этот период был свидетелем расцвета русской религиозной живописи в форме и фресок, и икон [1070] О русской живописи монгольского периода см. M. Alpatov and N. Brunov, Geschichte der altrussischen Kunst (Augsburg, 1932), pp. 285-346; M. Алпатов, Андрей Рублев (М.-Л., 1943); N.P. Kondakov, The Russian Icon, E.H. Minns, trans. (Oxford, Clarendon Press, 1927); P.P. Muratov, Les Icones russes (Paris, 1927); D.T. Rice, Russian Icons (London and New York, King Penguin Books, 1947); L. Ouspensky and W. Lossky, Der Sinn der Iconen (Bern, Switzerland, 1952).
. Важную роль в этом художественном возрождении сыграл великий греческий живописец Феофан, который оставался на Руси примерно тридцать лет до конца своей жизни и карьеры. Феофан творил сначала в Новгороде, а потом в Москве. Хотя русские восхищались и шедеврами, и личностью Феофана, его нельзя назвать основателем ни новгородской, ни московской школ иконописи. Русские иконописцы широко применяли его технику свободного мазка, но они не старались подражать его индивидуальному и драматическому стилю. Самым великим русским иконописцем этого периода является Андрей Рублев, который провел свою юность в Троицком монастыре и позже написал для него свою знаменитую икону «Троица». Очарование рублевских творений кроется в чистом спокойствии композиции и гармонии нежных красок. Прослеживается определенное сходство между его произведениями и произведениями его современника, итальянского художника Фра Анжелико.
Менее ярким, но не менее значительным, по-видимому, было развитие в этот период церковного пения, о котором, к сожалению, нам мало известно. Большинство дошедших до нас рукописей диатонического знаменного распева относятся к постмонгольскому времени, от 1450 до 1650 года [1071] О знаменном распеве см. В. Стасов, «Заметки о демественном и троестрохном пении», в его Собрании сочинений, 3. 107-128; Н. Финдейзен, Очерки по истории музыки в Руси (М.-Л., 1928), 1, 97-103; A.J. Swan, «The Znamenny Chant of the Russian Church», Musical Quarterly, 26 (1940), 232-243, 365-380, 529-545.
. Прототип знаменного распева завезли на Русь в одиннадцатом веке византийские певцы. В постмонгольское время русский распев отличался во многих отношениях от византийского образца. Как указывает Альфред Сван, " за время роста на русской почве и приспособления к русским условиям знаменный распев сблизился с русской народной песней " [1072] Swan (как в No 107), p. 365.
.По-видимому, монгольский период был инкубационным периодом финальной стадии знаменного распева. Также именно в конце монгольского периода появился другой распев, так называемый демественный. Он стал популярным в шестнадцатом веке [1073] О демественном распеве см. Стасов (как в No 107); Финдейзен (как в No 107), сс. 247-251; М.С. Пекелис, ред., История русской музыки (М.-Л., 1940), 1, 85-86.
.
В литературе церковный дух нашел выражение прежде всего в поучениях епископов и житиях святых, а также в биографиях некоторых русских князей, которые – это чувствовалось – настолько заслуживали канонизации, что их биографии писались в житийном стиле [1074] О русской агиографической литературе монгольского периода см. И. Некрасов, Зарождение национальной литературы в северной Руси (Одесса, 1870); Ключевский, Жития; А.Р. Кадлубовский, Очерки по истории древнерусской литературы житии святых (Варшава, 1902); Н.П. Барсуков, Источники русской агиографии (С.Петербург, 1882); Е.В. Петухов, Русская литература, древний период (Юрьев, 1912), сс. 93-95, 112-125; Г.П. Федотов, Святые древней Руси (Paris, YMCA Press, 1931).
. Основная идея большинства этих произведений заключалась в том, что монгольское иго – это кара Божья за грехи русского народа и что только истинная вера может вывести русских из этого тяжелого положения. Поучения епископа Серапиона Владимирского (1274-75 годы) типичны для этого подхода. Он винил за страдания русских преимущественно князей, которые истощили силы нации своими постоянными раздорами. Но он не останавливался на этом. Он упрекал простых людей за приверженность к пережиткам язычества и призывал каждого русского покаяться и стать христианином по духу, а не только по названию [1075] О Серапионе Владимирском см. Петухов (как в No 110), сc. 74-86; он же, Серапион Владимирский (Санкт-Петербург, 1888); M. Gorlin, «Sérapion de Vladimir, prédicateur de Kiev», RES, 24 (1948), 21-28.
. Среди князей первого столетия монгольского правления особый интерес представляют жития великого князя Ярослава Всеволодовича и его сына Александра Невского. Биография Ярослава Всеволодовича сохранилась только в отрывках. Она была задумана как первый акт национальной трагедии, в которой великому князю досталась главная роль. Во вступлении с восторгом описывается счастливое прошлое русской земли. По всей видимости, за ним должно было следовать описание постигшей Русь катастрофы, но эта часть утеряна. Вступление сохранилось под отдельным названием – «Слово о погибели земли русской» [1076] M. Gorlin, «Le Dit de la ruin de la Terre Russe et de la mort du Grand-Prince Jaroslav», RES, 23 (1947), 1-33.
. Оно, возможно, является высшим достижением русской литературы раннего монгольского периода. В Житии Александра Невского ударение делается на его ратную доблесть, проявленную при защите греческого православия от римско-католического крестового похода [1077] См. выше, Глава 3, с. 72.
.
Интервал:
Закладка:
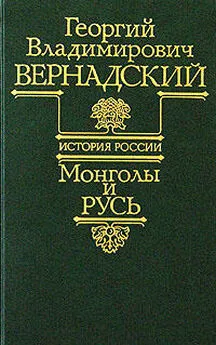



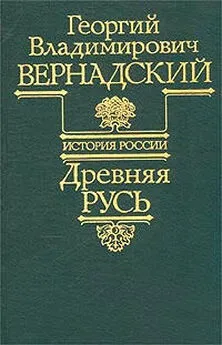
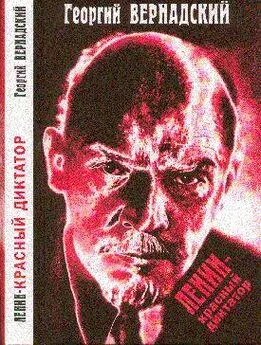
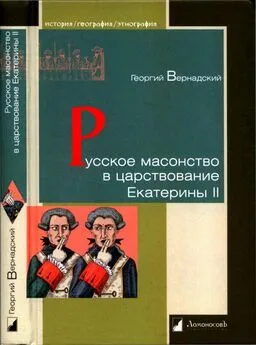
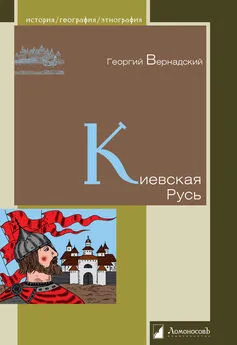
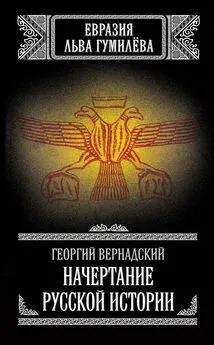
![Георгий Вернадский - Начертание русской истории [litres]](/books/1081585/georgij-vernadskij-nachertanie-russkoj-istorii-lit.webp)