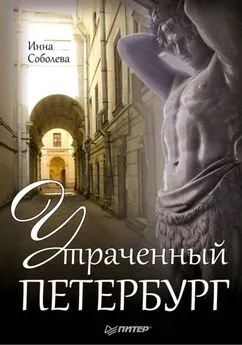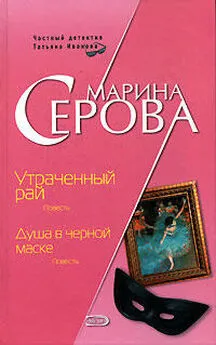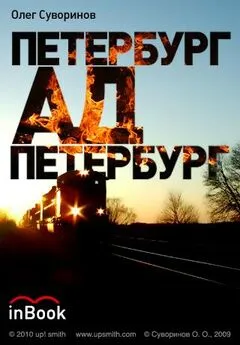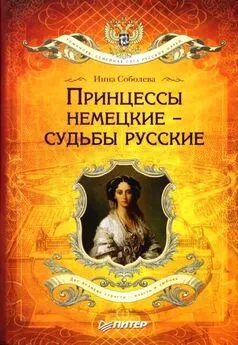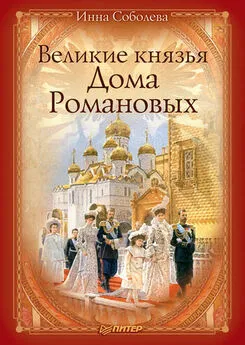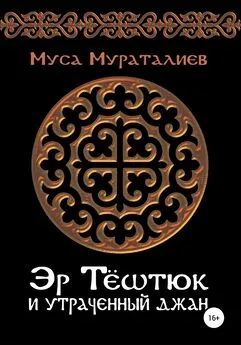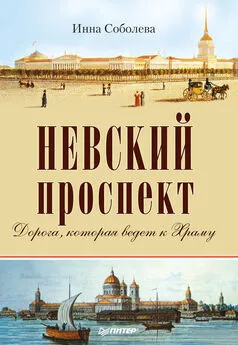Инна Соболева - Утраченный Петербург
- Название:Утраченный Петербург
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2012
- Город:СПб
- ISBN:978-5-459-00390-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Соболева - Утраченный Петербург краткое содержание
Петербург меняется стремительнее, чем когда-либо. Что-то идет под снос, что-то перестраивается. Какие-то перемены вызывают бурные споры, какие-то проходят, не замеченные горожанами.
Исчезают с лица города не просто здания — символы эпохи и поколения. Кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на Невском, 18, дом Рогова… Всего не перечислишь.
Что же утратил наш прекрасный город? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Или ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру?
Новая книга Инны Соболевой о том, как менялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург и каким уже никогда не будет снова.
Утраченный Петербург - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он был строг в оценках, даже суров, но… Достаточно вспомнить, как часто жестко и обидно критиковал Николая Алексеевича Некрасова, которого искренне любил. А когда прочитал стихотворение «В дороге» — был счастлив. Бросился Некрасову на шею: «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный!»
И еще один талант открыл Белинский. Несколько вечеров в его квартире читал, краснея от смущения, свою «Обыкновенную историю» молодой Иван Александрович Гончаров. Через несколько дней Белинский написал о нем: «…лицо совершенно новое в нашей литературе, но уже занявшее в ней одно из самых видных мест». И Гончаров поверил в себя.
А Федор Михайлович Достоевский вспоминал: «Воротился я домой уже в четыре часа светлой, как днем, петербургскую ночью. Стояло прекрасное теплое время и, войдя в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович с Некрасовым бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут (накануне Достоевский дал Григоровичу почитать только что законченную рукопись «Бедных людей». — И. С. ). Они пробыли у меня с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, главное — о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите — да ведь это человек-то, человек-то какой!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками.
Некрасов отнес рукопись Белинскому тем же утром. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении: «Приведите, приведите его скорее!». И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ли сами-то, что это вы такое написали!». Я припоминаю ту минуту в самой полной ясности, и никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом». И такими минутами Белинский одарил многих и многих, кто стал славой отечественной литературы. С его благословения, с его помощью и поддержкой. «Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров, Панаев суть дети Белинского, его вскормленники». С этими словами современника не просто охотно, но с гордостью соглашались все, кто удостоился чести быть названным в этом списке.
Дом № 68 долго еще хранил дух того прекрасного времени. Долго. Что бы ни менялось вокруг. Он был неподвластен самым роковым переменам.
Но… 6 сентября 1941 года два фашистских самолета прорвались в Ленинград и сбросили несколько фугасных бомб. Одна из них попала в дом № 119 по Невскому проспекту (Старо-Невскому). Это был первый разрушенный дом, тридцать восемь человек погибли и были ранены. Цифра эта тогда казалась огромной. Никто и представить не мог, что ждет ленинградцев впереди.
Литературному дому ждать оставалось недолго. Ночь 28 ноября 1941 года. Воздушный налет. Прямое попадание. Наутро вышел на Невский композитор Валериан Михайлович Богданов-Березовский, живший неподалеку. На следующий день он запишет в дневнике: «Нельзя было равнодушно пройти мимо свежих развалин разрушенного фугасной бомбой дома на углу Невского и Фонтанки. Висящие балки, вывороченные взрывом наизнанку комнаты с остатками мебели, распахнутыми дверными створками в огромном, безобразно зияющем проломе трехэтажной стены при тусклом мерцании еще непотушенного пожара. Стуки заступов и лопат работающей спасательной бригады.».
Пройдет время, и этот безобразно зияющий пролом закроют плакатом. Художник Иосиф Александрович Серебряный, фронтовик, вернувшийся, как горько шутили тогда, с передовой на передовую, нарисовал девушку с нежным (блокадным) лицом. Ей бы шелковое платье, каблуки. А она в сапогах, в рабочей спецовке. Двумя тоненькими руками приподнимает носилки, на них кирпичи и мастерок — будто просит, предлагает, приказывает: помогите! И текст, обращенный ко всем ленинградцам: «А ну-ка, взяли!» Они тогда «взяли». И восстановили свой город. В том числе и этот дом, о котором принято говорить, что он единственный на Невском был разрушен во время войны.
На самом деле это не совсем так. Литературный дом — единственный, пострадавший настолько, что его не удалось воссоздать, пришлось строить совершенно новый фасад. А серьезно пострадал не только он. Был изуродован снарядами и взрывной волной дом № 27, бомба разрушила центральную часть дома Энгельгардта (№ 30), украшенную колоннадой. Но их после снятия блокады удалось восстановить в первозданном виде.
В первые же месяцы войны (раньше, чем дом № 68) бомба разрушила несколько корпусов Гостиного двора, другая попала в Аничков дворец, снаряды — в Сергиевский, в Казанский собор попало три тяжелых снаряда, в крыше и куполе было тысяча шестьсот (!) пробоин. Осенью 1942 года двухсотпятидесятикилограммовая бомба упала на Аничков мост. Если бы в самом начале войны Клодтовских коней не сняли с пьедесталов и не закопали в саду Аничкова дворца, они бы наверняка погибли. А 12 января того же 1942-го зажигательная бомба упала на Гостиный двор, в пересечение Невской и Садовой линий. Начался пожар. И люди, истощенные, едва стоявшие на ногах (не только пожарные, не только работники милиции, но и случайные прохожие), не дали пламени охватить весь Гостиный двор и, главное, перекинуться на Публичную библиотеку. Сегодня это кажется невероятным, кажется подвигом, а тогда. Они просто спасали свой город, его несравненную красоту.
О блокадном городе, его героях и жертвах (не только о людях, но и о домах) можно и нужно рассказывать бесконечно, но эта книга — о другом. Так что ограничусь стихами Александра Петровича Межирова, поэта, воевавшего на Ленинградском фронте и не однажды бывавшего в осажденном городе:
Вновь убеждаюсь в этом:
Даже тогда — в грязи и золе
Невский был самым красивым проспектом
Из всех проспектов на всей земле.
Без стона, без крика снося увечье,
Которое каждый снаряд несет,
Он был красив красотой человеческой,
Самой высокой из всех красот.
А с литературным домом связана одна романтическая история (как раз о красоте человеческих чувств). Летом 1941 года молодой архитектор Борис Журавлев добровольцем ушел на фронт. Воевал под Гатчиной. Там же оказалась и студентка театрального института Нина Браташина, тоже боец-доброволец. Она вынесла раненого Бориса из-под огня. Успели сказать друг другу всего несколько слов — его увезли в госпиталь. Но это была любовь с первого взгляда… Искали друг друга. Не нашли. Каждый думал, что другой погиб. Но после войны встретились. Случайно. И больше уже не расставались. После победы был объявлен конкурс на строительство нового фасада Литературного дома. Победили Борис Николаевич Журавлев и его товарищ Игорь Иванович Фомин. Когда было решено поставить на крыше дома две скульптуры — рабочего и колхозницу, — Журавлев предложил: позировать будем мы с женой. И позировали. Скульптуры до недавних пор стоят по краям фронтона, напоминая кому-то композиции великого Кваренги, кому-то — историю любви архитектора и его жены. Так было до раннего утра 6 января 2011 года. Нет, их не сбросили. Их поместили в специально подготовленную конструкцию и в ней спустили на землю. Правда, как-то так случилось, что не уберегли, — раскололи. Новые хозяева литературного дома обещают, что они вернутся на место после реставрации — когда само здание полностью снесут, а потом «воссоздадут». Полностью снесут. А ведь в самом начале работ заверяли, что к главному фасаду даже не прикоснутся. Не прошло и месяца, а он уже крошился под отбойными молотками. И это при том, что разрешение было получено только на «демонтаж аварийных конструкций с сохранением стен лицевых фасадов». Кстати, «аварийность» дома № 68 тоже вызывает большие сомнения. Печальный опыт показывает, что застройщики (читай: новые хозяева города) отменно научились добиваться признания аварийными тех сооружений, которые мешают им осуществлять свои планы. А фасад мешает: не разобрав старый фундамент, невозможно устроить подземный паркинг. А какая без него гостиница! Между тем кое-кто уже суетливо подсчитывает, какие прибыли она принесет. Место-то уж больно «сладкое». А те, кто по тем или иным причинам (более или менее неприглядным) оправдывает снос всего здания вместе с фасадом, заявляя, что и дом жалеть не стоит: он же — новодел, и доска мемориальная не на месте висела (вход в квартиру Белинского был с Фонтанки). Но дом-то был один, и называют его все-таки не домом Белинского, а Литературным домом. К тому же не стоит забывать: Виссарион Григорьевич неоднократно менял квартиры в доме Лопатина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: