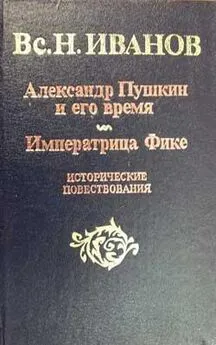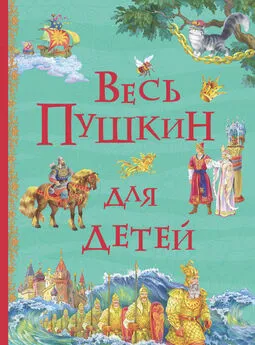Всеволод Иванов - Александр Пушкин и его время
- Название:Александр Пушкин и его время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Хабаровское книжное издательство
- Год:1985
- Город:Хабаровск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всеволод Иванов - Александр Пушкин и его время краткое содержание
Имя Всеволода Никаноровича Иванова, старейшего дальневосточного писателя (1888–1971), известно в нашей стране. Читатели знают его исторические повести и романы «На нижней Дебре», «Тайфун над Янцзы», «Путь к Алмазной горе», «Черные люди», «Императрица Фике», «Александр Пушкин и его время». Впервые они были изданы в Хабаровске, где Вс. Н. Иванов жил и работал последние двадцать пять лет своей жизни. Затем его произведения появились в центральной печати. Литературная общественность заметила произведения дальневосточного автора. Высоко был оценен роман «Черные люди», в котором критика отмечала следование лучшим традициям советского исторического романа.
Последним произведением Bс. H. Иванова стало повествование «Александр Пушкин и его время». Научный редактор книги — профессор, доктор филологических наук П. А. Николаев, он же автор предисловий к первому и второму изданиям этого повествования, — писал: «Среди множества научных и художественных биографий труд Вс. Н. Иванова привлечет к себе внимание читателей оригинальной трактовкой и характера великого поэта в целом, и многих особенностей его миропонимания. Пушкин предстает здесь и как волшебник поэтического слова, и как необычайно живая эмоциональная натура, но главное — как человек с чрезвычайно широким историческим мышлением. Пушкин — великий государственный ум, вот на какую сторону духовного облика поэта обратил внимание Bс. H. Иванов».
Александр Пушкин и его время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Турки отходили, на горе остался лежать голый труп казака — обезглавленный, обрубленный, — турки отсеченные головы отсылали в Константинополь, а кисти рук, обмакнутые в кровь, отпечатывали на своих знаменах…
Выстрелы утихли. Орлы, спутники войны, парили над горой, высматривая поживу… Показалась блестящая толпа генералов и офицеров штаба — то граф Паскевич проехал вперед, перевалил за тору. За ним, укрываясь в лощинах и оврагах, следовало 4000 конницы. Опасный, но привольный, смелый быт войны, настороженная жизнь вооруженных масс захватывали поэта.
«Лагерная жизнь очень мне нравилась, — пишет Пушкин. — Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Общество наше было разнообразно».
«В одежде и во всей его наружности, — свидетельствует М. В. Юзефович, — была заметна светская заботливость о себе. Носил он и у нас щегольский черный сюртук, с блестящим цилиндром на голове; а потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой». Однако этого «драгунского батюшку» видели всегда впереди, с разъездами — Пушкин наблюдал воочию и зорко огромное дело войны. Пушкин, несомненно, проверял верность рисунка своей «Полтавы», подбирал дальнейшие материалы из наглядной практики к истории Петра Великого.
Армия двигалась к Арзруму, который и был взят 27 июня…
Пушкин едет с Раевским по улицам Арзрума, турки угрюмо смотрят на победителей с плоских крыш своих, зато армяне веселы, их мальчишки крестятся, бегут перед лошадьми, кричат:
— Християн! Християн!
А вернувшись в лагерь под Арзрумом, Пушкин встретил в свите сераскира старого пашу, который, узнав, что перед ним поэт, сложил руки на груди, поклонился и сказал через переводчика:
— Благословен час, когда встречаем поэта! Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются.
Тем не менее у великого поэта постепенно портились отношения с главнокомандующим — Паскевич требовал, чтобы Пушкин во время «дел», то есть в бою, находился при нем, но поэт ускользал. К тому же главнокомандующий косо смотрел на общение Пушкина с некоторыми декабристами, находившимися в армии в звании рядовых…
Шли разговоры, что и тут за Пушкиным следили — Петербург не оставлял в покое великого поэта и здесь, на войне.
Наконец главнокомандующий вызвал поэта к себе в палатку, как раз во время доклада бумаг Вольховским, и резко объявил:
— Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России: вам здесь делать нечего! А потому я советую вам уехать из армии обратно, и я уже приказал приготовить для вас благонадежный конвой!
Пушкин порывисто поклонился главнокомандующему и в тот же день уехал, Граф подарил ему на прощание турецкую саблю…
Было это 19 июля…
А 20 сентября 1829 года московский полицмейстер Миллер рапортом доносит московскому обер-полицмейстеру:
«Секретно.
…Честь имею сим донести, что известный поэт, отставной чиновник 10-го класса, Александр Пушкин прибыл в Москву и остановился Тверской части 1-го квартала в доме Обера гостинице «Англия», за коим секретный надзор учрежден».
Это одно свидетельство очевидца возвращения Пушкина в Москву. А вот и другое.
Бартенев записывает рассказ С. Н. Гончарова — брата Натальи Николаевны: «Было утро, мать еще спала, а дети сидели в столовой за чаем. Вдруг стук на крыльце, и вслед за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша. Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тотчас спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пошли, но она не смела выйти, не спросившись матери, которую разбудили. Будущая теща приняла Пушкина в постели».
Так начались в Москве любовные страдания поэта, которые он, горько шутя у Ушаковых, называл «осадой Карса». «Карс» — это и была неприступная Наталья Николаевна, а маменька «Карса» — будущая теща Наталья Ивановна…
Полгода было суждено длиться этой и мучительной и сладкой осаде, целых полгода… Но одна любовь не могла бы целиком захватить Пушкина, остановить поток его творчества…
Глава 19. «Литературная газета»
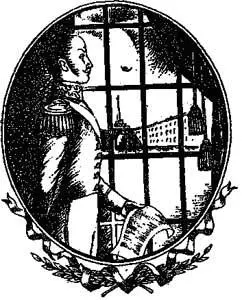
Сильные впечатления привез с театра военных действий в Закавказье Пушкин. Он сам видел, как закладывались там новые очертания границ России, как новые народности входили в ее состав, чтобы в будущем разделить общие великие наши судьбы.
Ведя дружбу с офицерством, Пушкин сближался, сживался и с солдатской массой, входил в душу старослужащего «николаевского» солдата, видя в нем достойного, доблестного воина. Он видел, понимал, что из таких именно людей состоит весь наш народ, сумевший добыть свою судьбу на Куликовом и на Бородинском полях, умевший и на Красной площади Москвы выступать против царя Бориса, против Лжедимитрия, сумевший собрать всенародное ополчение, чтобы выгнать после смуты чужаков-захватчиков из Кремля.
Все эти приобретаемые внове обильные материалы повелительно требовали себе действия, требовали органа печати: гений Пушкина звал поэта выходить на площадь, подыматься на трибуну.
Для себя лично Пушкин в таком органе не нуждался — он выходил уже своими книгами, печатался во всех журналах и альманахах страны, не чураясь изданий Булгарина и Греча, не нуждался Пушкин и в типографии — его Россия знала и в рукописях. Однако Пушкин стремился иметь в руках и свой орган печати. Еще до 1826 года он стоял близко к «Московскому телеграфу» Полевого, а с 1826 года к «Московскому вестнику» Погодина. Однако ни Полевой, ни Погодин его не удовлетворяли.
Оба, и Полевой, и Погодин, из-за деревьев не видели леса: купец Полевой старался сделать свой журнал ходовым и, стало быть, доходным. Выходец из крепостных, Погодин, выбившись в ученые, душил свой журнал доктринальными историческими статьями. Ни тот, ни другой не имели достаточно широкого кругозора, они оба не были достаточно смелы, достаточно талантливы.
«Полевой у нас родоначальник литературных наездников», каких-то кондотьери, ниспровергателей законных литературных властей. Он… приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина», — писал в записной книжке князь Вяземский.
Даже Погодин, стоявший было одно время на одной как будто платформе с Пушкиным, вышел из-под его влияния и, оставленный Пушкиным и пушкинскими сотрудниками, печатал в своем журнале статьи Арцыбашева против Карамзина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: