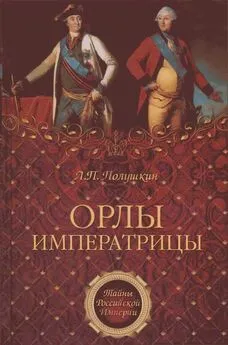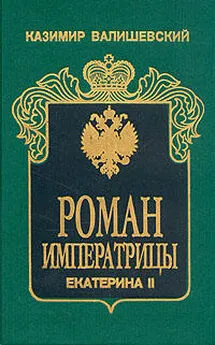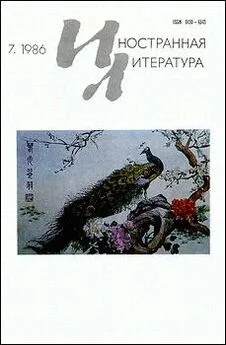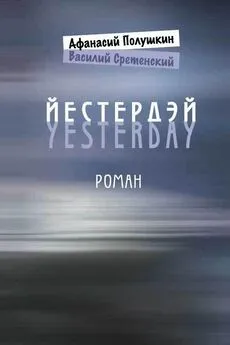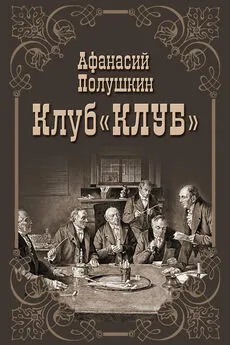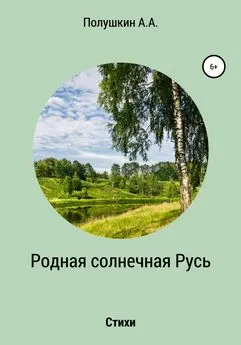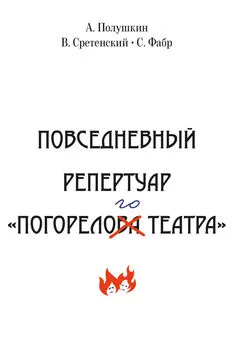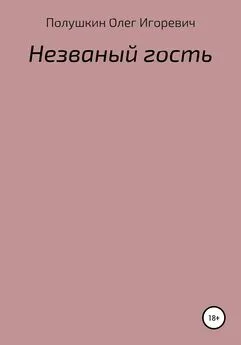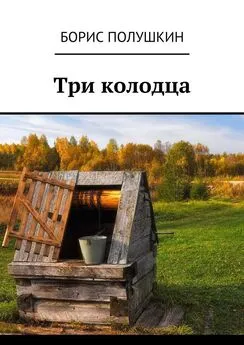Лев Полушкин - Орлы императрицы
- Название:Орлы императрицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-5577-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Полушкин - Орлы императрицы краткое содержание
О перевороте 1762 года и его печальном эпилоге написаны горы книг. На протяжении более двух веков убийство свергнутого императора Петра III приписывалось Алексею Орлову. Откуда взялась «копия» письма Орлова, сообщавшего об убийстве государя, и что представлял собой этот выходец из старинного дворянского рода, которого обвиняют в самовольном злодеянии? Сведения о нем, как и о его братьях, носят мозаичный, чаще всего противоречивый характер. Однако даже на их основе автор выстраивает картину жизни братьев Орловых, а также, используя новые фактические данные, пытается раскрыть истинные обстоятельства убийства российского государя.
Орлы императрицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О любимце и последователе А. Орлова Василии Ивановиче Шишкине следует рассказать особо. Родился он около 1780 г. и поначалу был дворовым человеком в Острове, обучался в местной школе для дворовых мальчиков, организованной А. Орловым. Умного, сметливого паренька граф приметил и вскоре доверил ему хранение своих колоссальных доходов, которыми тот стал распоряжаться по указаниям хозяина. Состоя при жизни графа главным конторщиком и кассиром, он после смерти хозяина становится управляющим Хреновского завода и имения, занимавшего 100 тысяч десятин земли с самыми разнообразными хозяйственными строениями. Как говорил один из очевидцев, А. Стахович, «Хреновая равняется пространством германскому княжеству». В этом хозяйстве содержалось не только более 2000 голов лошадей, но и 25 ватаг овец по 2000 в каждой и 20 гуртов волов. При воловьем хозяйстве содержались выписанные самим графом меделянские собаки (их родословными занимался также сам хозяин лично) и бульдоги. Весь этот гигантский «механизм» требовал постоянного контроля и корректировок, представляя собой единое отлаженное целое благодаря умелому руководству В. Шишкина.
Мясо овец засаливали, а сало и шкуры продавались ежегодно на сумму до 100 000 руб. Мясо волов шло на питание многочисленной дворни. Вся бесчисленная разнообразная живность, включая табуны лошадей, паслась на обширных лугах и полях, засеянных овсом и другими культурами, но на берега Битюга и в пойменные луга скот не выпускали: здесь заготавливалось на зиму высококачественное сено для избранных лошадей.
После смерти А. Орлова Шишкин в хреновском имении, часто посещаемом богатыми любителями лошадей, и сам уже жил по-барски в главном доме, занимая половину его, другая половина предназначалась для самой графини Анны и многочисленных почетных гостей. Воспитанный в вельможном доме, в меру образованный управляющий был до глубины души предан памяти своего великого господина, честно вел все местные дела, став истинным продолжателем окончательного выведения орловских лошадей. При нем дело было доведено до блистательного конца [31].
Бега
Испытания собственных рысаков на соревнованиях в скорости и красоте бега с рысаками других коннозаводчиков были для Алексея Григорьевича составной частью программы по улучшению породы. Для этого граф устраивал езду на рысаках в легких беговых санках или дрожках собственной конструкции, с русской упряжью. С его легкой руки бывшие в то время в моде нарядные немецкие санки постепенно со всей Москвы стали свозить как ненужное старье в железный ряд на Неглинную. Они заменялись русскими по типу орловских. Вся купеческая Москва стала подражать А. Орлову в упряжи.
Первоначально маршрут участников скачек лежал по Шаболовке через Москворецкий мост к Устьинскому и обратно. Но вскоре скачки приобрели столь массовый характер, что участились несчастные случаи с прохожими и проезжими, и ездоки по почину графа Алексея вынуждены были переместиться непосредственно к Донскому монастырю, поближе к его главным владениям. Первоначально к скаковому кругу посторонняя публика не допускалась, лишь с 1785 г. там происходили регулярные публичные скачки по четвергам в течение мая и июня ежегодно вплоть до самой кончины графа.
Бег был устроен на Большой Калужской улице, напротив графских домов; по сути, это был прообраз ипподрома с двухверстным кругом, обнесенный надолбами. Началом бега считалась линия между двумя воткнутыми в землю ребрами кита.
В первом публичном соревновании русских жокеев на чистокровных английских лошадях принимали участие девять лошадей: Изида, Лариса и Гранд Алексея Орлова, Лизистрата М. П. Хилкова, ставшего впоследствии секретарем скачек, Травлер Д. С. Муравьева, Стайль княгини Дашковой, Диана и Мизера князя Куракина и Метеор графа Капниста. Приз в 500 рублей, пожертвованный А. Орловым, выиграл Травлер Муравьева. Управлявший скакуном крепостной мальчик Андрей (фамилия осталась безвестной) прибыл к финишу с одним стременем в руках, потеряй он его во время скачки, Травлер лишился бы звания победителя, так как по правилам даже потеря стремени считалась уменьшением веса. Вес наездников во внимание не принимался, чем. видимо, и объясняется победа Травлера и его необычайно ловкого наездника, сумевшего на полном скаку ухватить отрывавшееся стремя. Граф Орлов, тронутый смелостью и ловкостью мальчугана, сам вручил ему в подарок 100 золотых. Вскоре всякий летний четверг на Б. Калужскую стекалось множество народа — смотреть бега. Молодежь знатных фамилий гарцевала верхом внутри круга, публика постарше располагалась на галереях.
Часто Алексей Григорьевич заставлял соревноваться своих рысаков меж собою, причем по принятому здесь обычаю неизменно наездник проигравшей лошади преподносил победителю калач. Состязания проводились в 3 круга, в целом по 6 верст. Сам граф выезжал порой вместе с дочерью Анной в золоченой четырехколесной колеснице, запряженной в ряд четверней гнедых или серых лошадей верховой породы, которыми управлял сам Алексей Григорьевич. Он пускал лошадей вскачь и на самом быстром ходу вдруг, мгновенно, едва уловимым легким движением руки, останавливал их и снова пускал тем же аллюром, так искусно выучены были его лошади. Вслед за ним следовало все высшее общество доканчивать вечер у «ласкового вельможи», как его называли москвичи.
На званые обеды съезжалось ограниченное число гостей исключительно по заранее разосланным приглашениям — так было общепринято в дворянской среде. Алексей любил отечественные нравы, обряды, развлечения, песни и танцы, ими он потешал народ обычно напротив Нескучного на Калужском («Орловском») поле.
Иногда после скачек, в саду, по словам одного из современников, «перед беседкой графа Орлова пели и плясали цыганы, из них один, немолодой, необычной толщины, плясал в белом кафтане с золотыми позументами и заметно отличался от других. Этот толстяк казался чрезвычайно искусным, даже „красноречивым в своих телодвижениях. Он как будто и не плясал, а между тем выходило прекрасно, ловко, живо и благородно“. Было у кого поучиться искусству танца дочери Аннушке; через несколько лет она стала выдающейся танцовщицей, на выступления которой на балах засматривались и привередливые знатоки. Обязательными сопутствовавшими настоящему танцу того времени элементами являлись жесты, пантомимика, составлявшие его „язык“».
Цыган Алексей Григорьевич вывез из Молдавии и сделал их своими крепостными. Числились они «приписными крепостными» села Пушкино. Созданным объединенным «русско-молдавским» хором, который явился родоначальником всех цыганских хоров в России, руководил Иван Соколов, а одним из певцов и танцоров был Илья Осипович Соколов (умер около 1849 г.), впоследствии сменивший Ивана. Этот самый хор известен до сих пор как «соколовский хор у „Яра“». Песни и пляски цыган в расшитых золотом и украшенных монетами нарядах производили неизгладимое впечатление. Своим исполнением, сопровождаемым прерывистыми вскриками, они доводили себя танцами до исступления. Впоследствии цыганский хор А. Орлова получил «вольную». Мужская половина этих цыган воевала в 1812 г. против Наполеона. Сами цыгане-историки считают А. Орлова первым, кто открыл в Москве путь цыганским песням и пляскам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: