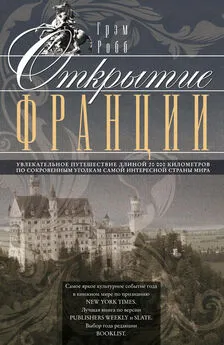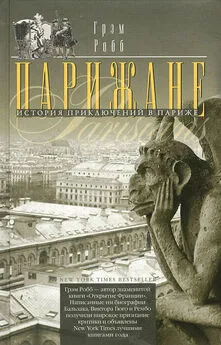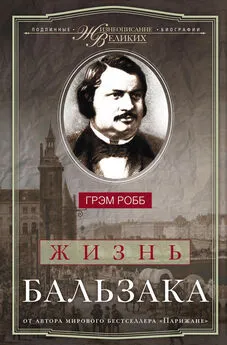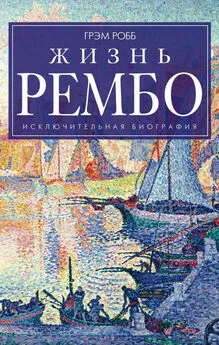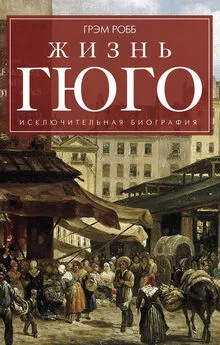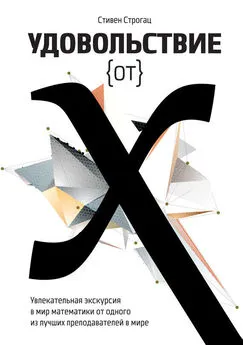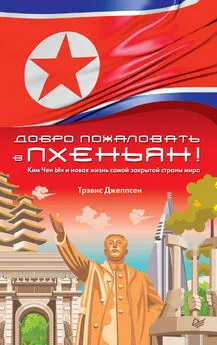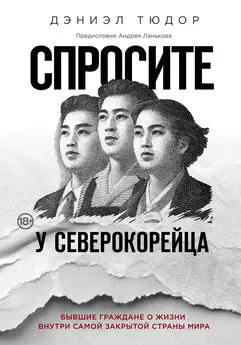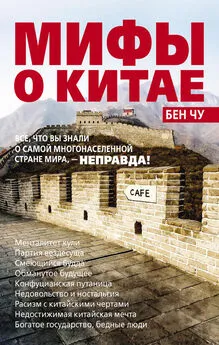Грэм Робб - Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира
- Название:Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-04695-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Грэм Робб - Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира краткое содержание
Автор этой книги – знаменитый историк и биограф, страстно любящий Францию и посвятивший ее изучению многие годы. Большинство историков фокусировали свое внимание на Париже – столице централизованного государства, сконцентрировавшей все политические, экономические и культурные достижения. Г. Робб увлечен иной задачей. Объехав Францию вдоль и поперек, побывав в самых дальних ее уголках, он меняет привычные представления о стране с помощью огромного исследовательского материала, начиная с доримской Галлии и завершая началом XX в., – и все это в форме увлекательных новелл о малоизвестных и прославленных на весь мир исторических событиях и персонажах. Он блестяще достигает поставленной цели – открыть читателю неизвестную прежде Францию.
Открытие Франции. Увлекательное путешествие длиной 20 000 километров по сокровенным уголкам самой интересной страны мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда людей просили указать их профессии в свидетельстве о рождении или в анкете для переписи, они начинали выглядеть частицами хорошо организованного эффективного населения, состоящего из узких специалистов и распределяющего свои усилия согласно потребностям. Но это предполагает такую степень экономического единства, которая вряд ли существовала до Первой мировой войны. Изобилие профессий могло говорить о процветании рыночного городка, но оно же могло указывать на необходимость производить все в своей местности и на невозможность заплатить налоги иначе, чем выручкой от продажи произведенных дома товаров. Крупномасштабная промышленность существовала лишь в нескольких регионах и немногих почерневших от угля долинах. До конца XIX века путешественники-французы, которые видели похожие на ад огромные промышленные города Великобритании, чувствовали себя так, словно попали на другую планету. Во Франции в середине XIX века большинство фабрик были семейными предприятиями, большинство металлургических производств находилось в деревнях и на большинстве текстильных мануфактур труд был ручным. Даже в 1860-х годах ремесленников во Франции было в три раза больше, чем рабочих.
Правда была сложнее и запутаннее, чем можно предположить по анкетам переписи. «Кое-как» доводить дело до конца означало очень много плохой работы, импровизации, блефа и обмана. В 1799 году один учитель истории исследовал тот округ страны, где жил сам, – департамент Аверон. Он обнаружил, что гончарное ремесло там все еще находилось «в младенческом состоянии». Местные жители ткали, но их с трудом можно было назвать ткачами. Строители занимались сразу всеми строительными ремеслами и ни одного не знали как надо. В Авероне были плотники, которые ни разу не видели ни рашпиля, ни долота; кузнецы, которые подковывали мулов тяжелыми подковами так, что те начинали хромать, и еще пытались чинить часы; пастухи, которые метили своих овец несмываемой смолой, и повара, знавшие всего один рецепт – соль, пряности и как можно больше мяса.
Во всех этих профессиях работа выполнялась с той же скоростью, что и большинство дел на фермах, то есть не в ритме производственного конвейера. Сроки исполнения работ определялись длиной светового дня и временем года. Во время сбора урожая батрак мог работать в поле пятнадцать часов в день, но в другое время он работал восемь часов или даже меньше. В департаменте Эндр в пору роста посевов люди находились в полях с шести часов утра до семи вечера. Но в середине дня поля пустели на три часа: сиеста существует не только на солнечном юге. Работать напряженно и без отдыха приходилось редко, а для большинства людей, если судить по тому, как они питались, это было и физически невозможно.
Календарь не был тюремной стеной из недель, месяцев и лет с крошечными окошками для отдыха. Работы на ферме обычно занимали не больше 200 дней в году. Рабочие на фабриках редко работали больше 260 дней в году. Год, как правило, включал в себя несколько религиозных праздников (Страстную неделю, Пасхальную неделю, Иванов день, День Всех Святых, Рождество, Новый год и три дня масленичного карнавала), ежегодное паломничество – по сути дела, отдых под открытым небом; «день» местного святого, иногда продолжавшийся несколько дней, день святого соседней деревни, примерно раз в неделю – рыночный или ярмарочный день и около десятка семейных встреч. В большинстве местностей Франции считалось также, что в пятницу лучше ничего не делать: нельзя начинать уборку урожая или постройку нового дома, заключать сделки, сеять, резать свинью, вводить в стадо новое животное, убираться в конюшне или хлеву, копать могилу, менять простыни, стирать одежду, отправляться в путь, смеяться или рожать. Тот, кто это делал, сам напрашивался на неприятности. Считалось, что рубаха, выстиранная в пятницу, станет саваном. Воскресенье, разумеется, было днем полного отдыха. Считалось, что, если человек ловит рыбу в воскресенье, у него родятся дети с рыбьими головами.
В стихотворении из Матиньона в Бретани говорится, что при правильном выборе предлогов и в подходящее время года можно бездельничать целую рабочую неделю.
Lundi et mardi, fête;
Mercredi, je ne pourrai y être;
Jeudi, l’jour Saint-Thomas;
Vendredi, je n’y serai pas;
Samedi, la foire à Pléneé.
Et v’là toute ma pauv’ semaine passée!
Понедельник, вторник – праздник.
Среда – я не смогу там быть;
Четверг – День святого Фомы;
В пятницу меня там не будет;
В субботу ярмарка в Плене.
Вот и вся моя неделя пролетела!
Жителям какого-нибудь края-«пеи» значительная часть этой книги показалась бы историей мира, в которой лишь на мгновение, случайно мелькнуло имя их деревни. Но если бы человек XXI века оказался в каком-нибудь из этих краев в любой момент времени до Первой мировой войны, он бы точно так же растерялся.
Если бы современный путешественник сел отдохнуть у края поля, заснул и проснулся двести лет назад, он увидел бы почти тот же пейзаж, но явно долго остававшийся без ухода. Злаки на полях стали бы ниже, были бы засорены стерней и сорняками и населены птицами и насекомыми. Шоссе превратилось бы в изрытую колеями немощеную дорогу, которая ведет приблизительно к ближайшему шпилю, но почти не выделяется среди других дорог, пересекающих поля. Было бы меньше аккуратных параллелограммов леса и больше беспорядка в расположении на местности живых изгородей, прудов и хуторов. Такой пейзаж наводил на мысль, что здесь живут домоседы, которые внимательно относятся к малым пространствам и более уязвимы для стихий. Без более крупных геометрических форм – водокачек, силосных башен, линий электропередачи и струй пара – казалось бы, что дома людей прячутся среди пейзажа.
Вместо трактора были бы видны фигуры цвета земли, работающие со скоростью стада. При более близком взгляде стало бы заметно, что эти люди-машины нуждаются в ремонте. Определить их возраст было бы невозможно. В середине XIX века более четверти молодых людей, стоявших голыми перед призывными комиссиями, оказывались негодными для военной службы из-за «болезненности», в том числе «слабого телосложения», из-за того, что рука или нога не действует или вообще отсутствует, из-за слабого зрения и глазных болезней, грыж и болезней половых органов, глухоты, зоба, золотухи, болезней дыхательных органов и грудной клетки. Из 230 тысяч призывников примерно тысяча были признаны умственно отсталыми или сумасшедшими, 2 тысячи оказались горбатыми, еще почти 3 тысячи были кривоногими или косолапыми. Еще 5 процентов были слишком низкого роста (меньше 5 футов), и около 4 процентов страдали от неустановленных болезней, в число которых, вероятно, входили дизентерия и заразные болезни, переносимые вшами. По вполне понятным причинам тех, кто был болен инфекционными заболеваниями, не осматривали, и в списках сведений о них нет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: