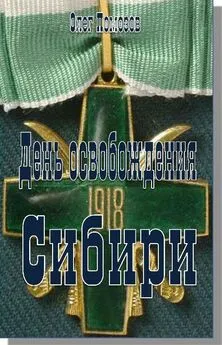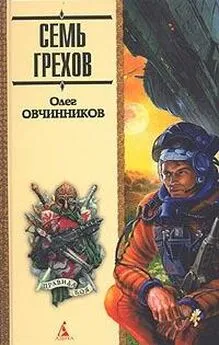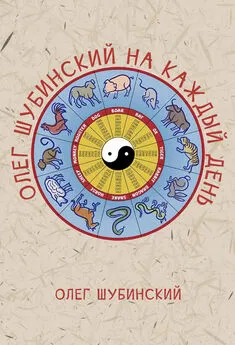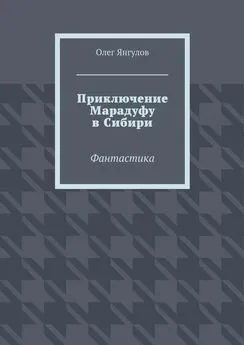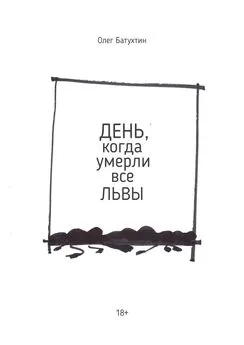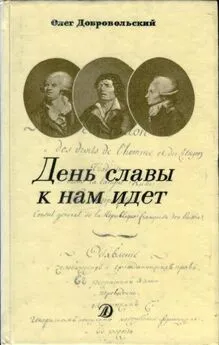Олег Помозов - День освобождения Сибири
- Название:День освобождения Сибири
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красное знамя
- Год:2014
- Город:Томск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Помозов - День освобождения Сибири краткое содержание
Книга «День освобождения Сибири» О.А. Помозова посвящена непростой истории Сибири с марта 1917 г. по май 1918 г., периоду Октябрьской и Февральской революций. В ней рассказывается о борьбе сибиряков за права местного населения, за предоставление региону большей политической, экономической и социокультурной самостоятельности. Автор книги, по его собственным словам, не претендует на абсолютную историческую достоверность, а порой даже мифологизирует описанные исторические события прошлого.
При работе над книгой автором было переработано большое количество первоисточников, в том числе периодических изданий того периода. Все использованные источники приведены в конце монографии. Кроме того, книга содержит краткий биографический справочник об основных участниках описываемых событий, своеобразные досье.
Книга предназначена главным образом для массового читателя. Вместе с тем она может заинтересовать студентов гуманитарных вузов, профессиональных исследователей.
День освобождения Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что именно Виктор Михайлович Чернов 5 января 1918 г. занял кресло председателя Всероссийского Учредительного собрания. По воспоминаниям современников, Ленин появился в зале заседаний именно после того, как факт избрания Чернова уже невозможно было предотвратить. Вождь мирового пролетариата тогда скромно сел где-то на ступеньках поближе к сцене, слушал, ничего не записывал в свой блокнот (как он обычно делал) и, как показалось некоторым, как-то безвольно и очень странно улыбался. Он слушал выступление Виктора Чернова… внимательно слушал и в то же время думал о своём. Ему предстояло решить в тот момент, пожалуй, один из самых важных и трудных вопросов не только в русской, но и, возможно, во всей мировой истории (а в европейской — то уж точно): давать команду на разгон Учредительного собрания или нет. Молодцы (ударение на первый слог) матросы с красными повязками на бушлатах и с папиросками в крепких молодых зубах, стоявшие у входных дверей в зал, ждали только сигнала, и на их лицах вряд ли бы кто смог отыскать тогда хоть тень какого-то сомнения. Но их вождь, по всей видимости, слегка растерялся и оттого, кажется, впервые за последний год так безвольно улыбался.
Ленин в силу присущей ему политической прозорливости конечно же прекрасно понимал, может быть, даже лучше всех остальных членов Собрания понимал, что может произойти, в случае, если матросы Железняка по его приказу войдут и закроют форум, о котором мечтало и грезило несколько поколений русских революционеров. Тысячи и тысячи из них ради того, чтобы Собрание состоялось, жертвовали собственным здоровьем, личным счастьем и благополучием. А многие отдали за идеалы демократии даже и свои жизни, в том числе и Александр Ульянов, по-прежнему любимый и всё ещё безмерно обожаемый старший брат («Он старше вас, он умнее вас…» — А. Вампилов, «Старший сын»). Понимая, что в рай он уже не попадает в любом случае, Ленин думал о том, что если он сегодня в угоду конъюнктуре политического «рынка» всё-таки пойдёт против совести, то после смерти где-то там, на бесконечных кругах дантовского чистилища, при долгожданной встрече с любимым братом, он рискует быть им «неузнанным». А это будет для него, возможно, даже пострашнее котла с кипящей смолой…
А Виктор Чернов всё говорил. Он умел говорить, как он это делал — удивляло многих. Ленин сам являлся неплохим оратором, однако он не так часто выступал, и всё потому, что простому и мало подготовленному человеку его речи были не всегда понятны (кто читал ленинские статьи, то есть те люди, кто получал высшее образование в СССР до 1991 г., знают, как они трудны для восприятия). Как правило, роль «горлана-главаря» в партии большевиков всегда отдавали Льву Троцкому. Речи последнего перед революционно настроенными массами всегда считались более простыми и понятными, чем ленинские. Однако Троцкий представлял собой скорее великого сказочника, нежели ревностного правдолюба, поэтому он по большей части лгал, навязывая народу мысль, что если уничтожить под корень всю мировую буржуазию, то завтра же наступит всеобщее счастье и на всех русских берёзах, образно выражаясь, будут расти французские булки, уже намазанные вологодским, а ещё лучше — сибирским — сливочным маслом.
В публичных речах Виктора Чернова всё представлялось совсем иначе. Во-первых, в них не было никаких заимствований из сборника сказок братьев Гримм, там присутствовала главным образом только чистая конкретика и — никакой пустой демагогической риторики. Во-вторых, Виктор Михайлович, как и его литературный кумир Лев Толстой, старался говорить на понятном для большинства людей языке, без особых научных изысков и пустопорожних велеречий. И поэтому его всегда с большим интересом и пониманием слушали те, кто действительно по велению души или просто, исходя из жизненной необходимости, искал смысла в русской революции, а равно с этим и во всём перманентном русском бунте.
Но зато, если есть на Руси человек,
Кто корысти житейской не знает, —
Пусть тот смело идёт, на утёс тот взойдёт,
О Степане всю правду узнает.
Виктор Чернов из всех российских политиков той поры был в этом смысле, пожалуй, ближе всех к истине, как староверы-беспоповцы, надо полагать, ближе других православных верующих к богу.
То, что генерал от инфантерии Корнилов собирал на юге России Добровольческую армию против большевиков и всех остальных революционеров, Ленина в тот момент не так сильно пугало. Против его офицерских полков у советской власти имелись матросы Балтфлота и пролетарская гвардия. Единственной реальной силой белого движения, пожалуй, являлось только десятимиллионное казачье население великого Войска Донского. Однако против них под рукой у Ленина имелось стомиллионное крестьянство Центральной России, которое получило, согласно декретам большевиков, все бывшие помещичьи земли и поэтому молилось за Совет народных комиссаров, как дети за отца родного. С такой силой большевикам не страшен был не только Лавр Корнилов, но, пожалуй, и вся Западная Европа с Америкой в придачу с их экспедиционными корпусами.
А вот эсеры с их идеями на злобу дня большевиков очень даже сильно тревожили. И особенно их беспокоили так называемые черновцы, составившие большинство Учредительного собрания, и лидер которых к тому же ещё и занял председательское кресло российского всенародного форума. Мало того, что эти люди вполне могли продублировать в стенах зала заседаний декреты советской власти о земле, так они имели все возможности ещё и переиграть большевиков, что называется, на их же собственном поле. Стоило только агитаторам от эсеровской партии разъяснить крестьянам, только что получившим вожделенные помещичьи заливные луга и чернозёмы, что большевики опять хотят загнать их в кабалу, но на сей раз к чиновнику-бюрократу из сельхозуправления. А также, — что в каждой деревне будут созданы теперь сельхозпредприятия, на которых крестьян лишат всякой предпринимательской инициативы и всех уровняют (и тунеядцев, и трудоголиков) в распределении доходов…
Эсеры же могли предложить российскому крестьянству рыночный вариант развития товарно-денежных отношений в сельхозпроизводстве, доказавший на практике свою высокую эффективность. Вместе с тем они предлагали исключить из рыночных отношений институт частной собственности на средства производства, достаточно плохо себя зарекомендовавший в ходе исторического развития. Это могло в корне поменять отношение русского крестьянина к большевикам и переманить значительную и главным образом деловую (читай: самую передовую и активную) часть русских хлеборобов в лагерь эсеров-интернационалистов, как ещё иногда называли сторонников группы Виктора Чернова. Данное обстоятельство являлось для большевиков почти смертным приговором, и именно тем неудобен был «селянский министр» (так Виктора Михайловича иногда величали в шутку его оппоненты, не подозревая, однако, что тем самым абсолютно точно определяли его главный политический козырь или конёк).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: