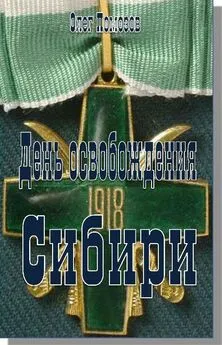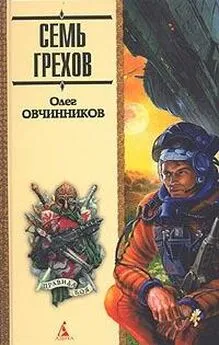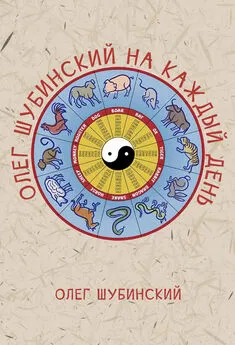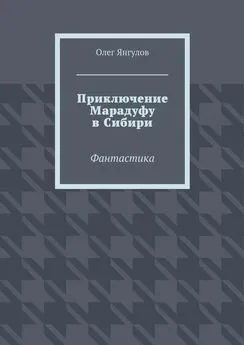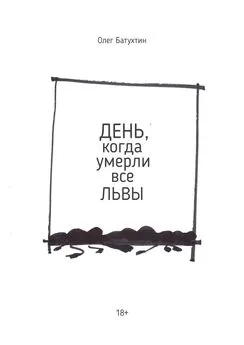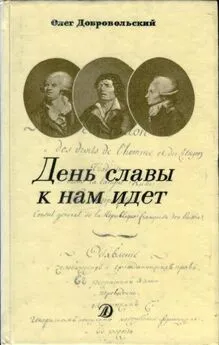Олег Помозов - День освобождения Сибири
- Название:День освобождения Сибири
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красное знамя
- Год:2014
- Город:Томск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Помозов - День освобождения Сибири краткое содержание
Книга «День освобождения Сибири» О.А. Помозова посвящена непростой истории Сибири с марта 1917 г. по май 1918 г., периоду Октябрьской и Февральской революций. В ней рассказывается о борьбе сибиряков за права местного населения, за предоставление региону большей политической, экономической и социокультурной самостоятельности. Автор книги, по его собственным словам, не претендует на абсолютную историческую достоверность, а порой даже мифологизирует описанные исторические события прошлого.
При работе над книгой автором было переработано большое количество первоисточников, в том числе периодических изданий того периода. Все использованные источники приведены в конце монографии. Кроме того, книга содержит краткий биографический справочник об основных участниках описываемых событий, своеобразные досье.
Книга предназначена главным образом для массового читателя. Вместе с тем она может заинтересовать студентов гуманитарных вузов, профессиональных исследователей.
День освобождения Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С другой стороны (и как тут не вспомнить известную гоголевскую фразу из «Мёртвых душ»: «Хороший человек, да и тот, по правде сказать, разбойник, только что не масон»), некоторые источники обвиняют Кудашева в принадлежности к традиционно враждебным российскому императорскому трону масонским организациям. Так, О. Платонов причисляет его к членам известного масонского ордена под названием Великий восток Франции. Известен также эпизод 1920 г., связанный с перезахоронением неподалёку от Пекина останков членов императорской фамилии, родственников последнего русского царя, казнённых большевиками в Алапаевске и вывезенных по личному распоряжению адмирала А.В. Колчака в бытность его верховным правителем России на восток. По некоторым данным, Кудашев якобы чинил массу препятствий при доставке гробов с их останками из Харбина в Пекин. Также известно, что посла Кудашева не оказалось почему-то среди встречавших этот «груз 200» на перроне Пекинского железнодорожного вокзала, а ведь, как монархист, он был просто обязан там присутствовать, но что-то, видимо, помешало…
142
То ли потому, что барон якобы ненавидел «гнилую» интеллигенцию вообще и врачей в частности (про Унгерна всегда любили и до сих пор любят рассказывать всяческие жуткости), то ли в этой маниакальной ненависти к врачам была у барона и какая-то своя, особая, мистическая, подоплёка (в 1920 г., кстати, именно врач по фамилии Рибо, служивший в отряде Унгерна, станет одним из заговорщиков, захвативших барона и выдавших его на расправу большевикам.
143
Последнее действительно имело место, поскольку Харбин в то время был крупной перевалочной базой по переправке из Ирана в Китай по Транссибу больших партий опиума. Как известно, на протяжении XVIII и XIX веков «доблестные» британские колонизаторы огромными партиями, причём абсолютно легально, ввозили в Китай опиум и сбывали втридорога местному населению. В XIX веке, наконец, этот процесс усугубился до такой степени, что достиг в Поднебесной масштабов настоящей национальной катастрофы, вынудившей простой народ в условиях полной коррумпированности чиновничьего аппарата, полиции и министров даже организовать несколько мятежей, вошедших в историю под названием «опиумных бунтов». Многочисленные акты народного волеизъявления жесточайшим образом подавлялись экспедиционными корпусами Англии, Франции, а также, к сожалению, и царской России.
Однако в начале XX века китайским властям ценой неимоверных усилий, преодолевая сопротивление высокооплачиваемого за иностранные деньги местного наркотического лобби, всё-таки удалось законодательно запретить ввоз опиума в страну и его продажу, и тогда он стал поступать в Китай нелегально. После ввода в эксплуатацию Транссиба большие партии наркотиков начали переправлять с Ближнего Востока в Поднебесную транзитом через Сибирь. Некоторые проводники пассажирских поездов, как, наверное, и сейчас, за «долю малую», «детишкам на молочишко», как говорится, в потайных местах перевозили опиум до Харбина, а тут уж он поступал в руки местных наркодилеров. За такими-то дельцами и устраивали нелегальную охоту русские офицеры, желавшие быстро и хорошо подзаработать. Наркотики и тогда, конечно, стоили очень больших денег. Так, например, из дела, заведённого в 1915 г. в отношении начальника Иркутского сыскного отделения Романова, явствовало, что от каждого крышуемого им оптовика (по большей части из числа аптекарей-евреев) он получал в месяц денежное вознаграждение, равное его годовому жалованью (этой традиции у нас в Сибири, таким образом, уже более 100 лет). А барон Будберг, известный мемуарист той поры, прибывший в Харбин также где-то в феврале месяце 1918 г., вспоминал, что по пути с их поездом произошёл небольшой казус. На одной из стаций большевики конфисковали из их железнодорожного состава вагон-ресторан, так как его практически никто не посещал, после чего в купейном вагоне с некоторыми пассажирами произошла настоящая истерика. Оказывается, в стенках конфискованного вагона было спрятано более ста килограммов опиумного порошка, понятно, что на весьма приличную — астрономическую — сумму.
144
Не случайно адмирал Колчак впоследствии во время допросов в иркутской следственной комиссии путал Комитет и Кабинет, а точнее просто, видимо, как и мы, объединял их в своём представлении в организации с абсолютно схожими политическими целями.
145
Не надо забывать, что начала февраля, как такового, в тот год не было. В связи с переходом советской России к Григорианскому календарю вслед за 31 января сразу наступило 14 февраля.
146
Маркову — неполных 34, Михайлову и Линдбергу — по 28 лет.
147
При этом Марков и Михайлов — в прошлом члены боевых эсеровских групп, попавшие в своё время на сибирскую каторгу за реально «подрасстрельные» дела; тогда, правда, террористов не расстреливали, а вешали. Марков — за покушение на убийство царского министра юстиции Муравьёва, а Михайлов — за участие в убийстве некоего высокопоставленного жандармского офицера. Причём Павел Михайлов как раз именно такой смертный приговор и получил, но, исходя из того, что ему на тот момент было всего 18 лет, то есть он являлся несовершеннолетним (совершеннолетие наступало с 20 лет в царской России), смертную казнь ему заменили пятью годами каторжных работ. Отбывать срок Михайлову пришлось, пожалуй, в самом страшном «исправительном» учреждении той поры — в Зерентуйском централе Нерчинских серебросвинцовых рудников, разрабатывать которые начинали ещё декабристы. Трудно себе даже представить, как вполне домашний юноша, всего лишь первокурсник медицинского факультета университета, пережил тот ад в полном смысле этого слова, в котором он оказался. Но выдержал. Несколько раз, правда, вскрывал себе вены и всё-таки выстоял. Более того, даже в тех страшных условиях не смирился и вновь участвовал в попытке покушения, но на сей раз — на жизнь начальника тюрьмы.
Не менее дерзким характером, по всей видимости, обладал и Борис Марков, он, отбывая срок в Тобольской каторжной тюрьме, стал там одним из организаторов бунта заключённых, во время которого в столкновениях с охранниками сам был тяжело ранен. После этого его, по некоторым сведениям, также отправили на каторжные работы в Нерчинские рудники. Вероятно, именно там Михайлов с Марковым впервые познакомились, а потом и подружились. Подружились, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Такую, увы, уже недолгую…
148
Они вновь воссоединятся все вместе, впятером, после того как большевиков изгонят за пределы Сибири. Однако вскоре опять наступят нелёгкие для демократии времена, связанные с колчаковским переворотом, и молодым эсерам придётся вновь принимать трудные решения: «быть или не быть», «бить или не бить». Четверо выберут гамлетовский вариант и, возродив некогда весьма действенный «Сибирский союз социалистов-революционеров», примут участие в организации антиколчаковского вооруженного мятежа. Лишь Михаил Омельков, «пермяк — солёные уши», в очередной уже раз не поддержит тогда своих товарищей и останется на позициях непротивления злу насилием. В таком состоянии он дождётся «второго пришествия» советской власти в Сибири и полностью примирится в итоге с большевиками. Однако они не простят ему его прошлого и в феврале 1938 г. расстреляют в Москве. Через месяц там же будет казнён и его товарищ по Сибирскому союзу Михаил Линдберг. А восемнадцатью годами ранее, в январе 1920 г., Павла Михайлова и Бориса Маркова зверски замучают семёновцы. Избежит всех подобного рода «перегибов на местах» из всей отважной пятёрки лишь один Арсений Лисиенко (Семёнов), так и не поменявший до конца жизни революционно подпольной фамилии на подлинную. После окончания Гражданской войны он эмигрирует в Китай, а потом в Новую Зеландию, где мирно скончается в 1973 году.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: