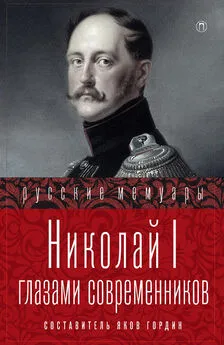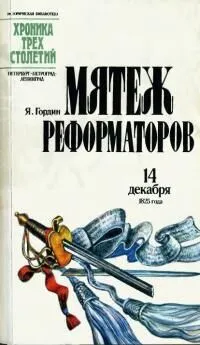Яков Гордин - Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России
- Название:Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-367-03207-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Гордин - Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России краткое содержание
Книга Якова Гордина посвящена одному из самых ярких эпизодов в истории Российской империи — восстанию декабристов. Автор подробно исследует головоломную ситуацию, возникшую после смерти Александра I. Он предлагает свои решения загадочных ситуаций и труднообъяснимых поступков, отыскивает смысл и логику там, где они, казалось бы, отсутствуют.
Мятеж реформаторов: Когда решалась судьба России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
"…Мы снова стали говорить о тогдашних обстоятельствах и делать разные предположения о будущем императоре. Наконец он сказал: "Большое несчастье будет, если Константин будет императором".
Я: — Почему ты так судишь?
Он: — Он варвар.
Я: — Но и Николай очень жестокий человек.
Он: — Какая разница! Этот человек просвещенный, а тот варвар".
Не вдаваясь в споры о личности великих князей, Трубецкой заговорил о настроениях солдат, о неестественности второй присяги и возможных волнениях. Но Шипов стоял на своем:
"Он: — Меня солдаты послушают. Я первый узнаю, если Константин откажется, мне тотчас пришлют сказать из Аничкова дворца; я тотчас приведу свой полк к присяге. Я отвечал за него, я дал слово.
Я: — Но можешь ли ты знать, что тебе скажут истину? Кажется, очень желают царствовать, а в таком случае разве не могут прислать тебе сказать, что Константин отказался, и обмануть тебя? Ты приведешь полк к присяге, а окажется, что Константин не отказывался; что ты будешь тогда делать? Ты несешь голову на плаху.
Эти слова поразили Шипова; он отскочил от меня, потом спросил:
— Трубецкой, что ж делать?
Я продолжал: — Если даже Константин и откажется, то можем ли мы полагать, что все спокойно кончится? Ненависть солдат, дурное мнение, которое вообще все имеют о Николае, разве не может возродить сопротивление и не от одних солдат?
Он: — А разве есть что? Разве говорят о чем?
Я: — Я не знаю, но все может быть.
Он: — Трубецкой, у тебя много знакомых; ты многих знаешь в Совете, в Сенате. Если есть что, если о чем поговаривают в Совете, то, пожалуйста, уведомь меня".
Поскольку Шипов на второй — решающий — встрече неожиданно заявил, что Константин "злой варвар", а Николай "человек просвещенный", Трубецкому стало ясно, что он будет поддерживать Николая.
Позиция Шипова поражает своей неестественностью. Умный, либерально мыслящий человек, он не мог не знать истинной цены Николаю. Но и маловероятно, чтобы он притворялся, не доверяя Трубецкому, старому боевому товарищу, другу молодости, соратнику по тайным обществам. Создается впечатление, что Шипов просто не знал, чью сторону принять. Недаром он настойчиво просил Трубецкого извещать его о конъюнктуре.
Позиция Шипова была характерна для того момента — он выжидал. Судя по его прошлому, весьма недавнему прошлому, он совсем не прочь был увидеть Россию конституционной страной. Но рисковать не хотел.
Трубецкой решил — или ему через двадцать лет так казалось, — что Шипов "передался совсем на сторону" Николая. Однако поведение Шипова 14 декабря вовсе не свидетельствует о прочности и убежденности его выбора…
Попытка привлечь Шипова к действию, скрытая Трубецким от следствия и, как мы увидим, далеко не исчерпывающе изложенная им в мемуарах, много говорит об особом круге занятий князя Сергея Петровича. Как правильно сказал Шипов, Трубецкой имел высокие связи, очень важные для видов общества знакомства, и явно пытался в эти дни их использовать. Ведь, кроме Шипова, в Петербурге в это время находились и другие — дослужившиеся до генеральских чинов — члены Союза благоденствия. Например, командир лейб-гвардии Кирасирского полка Кошкуль. Естественно было Трубецкому попытаться хотя бы выяснить позиции таких людей.
Кроме того, в его следственном деле проскальзывают следы и других контактов, касающихся именно Совета и Сената. Лидеры тайного общества хорошо усвоили уроки прошлого века. Недаром другом Трубецкого был Ми-хайл Фонвизин, столь подробно знавший историю екатерининского времени. Лидеры общества не хуже Орловых в 1762 году понимали необходимость союза с либеральными вельможами. Тогда это были Панины, Дашкова, Разумовский. А теперь?
Тут можно спросить: почему же Трубецкой через двадцать лет, в безопасном отдалении от событий, вспомнил о Шипове, но не вспомнил о других. Во-первых, Трубецкой говорит о разных своих контактах, например с Опочининым, бывшим адъютантом Константина. Во-вторых, записки эти далеки от полноты и завершенности. В-третьих, отдаление еще вовсе не было безопасным для лиц, о которых могла идти речь, поскольку записки датируются 1840-ми годами. Скажем, и Шипов, и Кошкуль были еще живы. (Потому можно усомниться — и этому сейчас увидим подтверждение, — что Трубецкой и о разговоре с Шиповым сказал все, что помнил.)
Быть может, князь Сергей Петрович умолчал бы и о встречах с Шиповым, если бы этот сюжет не был связан с другим, весьма важным.
Трубецкой рассказывает — и косвенные данные подтверждают этот рассказ, — что в конце марта 1826 года к нему в камеру пришел для разговора с глазу на глаз генерал Бенкендорф и сказал, что государь прислал его секретно, вне рамок следствия, выяснить — какие отношения связывали Трубецкого со Сперанским. На полное отрицание Трубецким каких бы то ни было отношений Бенкендорф сказал, что царь располагает свидетельством человека, которому Трубецкой говорил о своих переговорах со Сперанским. "Вы даже советовались с ним о будущей конституции России". По ряду признаков Трубецкой, так и не признавший правдивости этих сведений, решил, что они идут от Сергея Шипова. (Действительно, никто из подследственных не давал таких показаний.)
Вот тогда-то князь Сергей Петрович и вспомнил о командире Семеновского полка.
Но странно: в воспроизведенных Трубецким разговорах с Шиповым о Сперанском нет ни слова. Очевидно, речь о нем шла в том "продолжении разговора", которое Трубецкой не раскрыл, не конкретизировал. Между тем он уверенно говорит о Шипове как о возможном источнике информации.
Встречался ли Трубецкой в эти дни со Сперанским? Трудно сказать. Но есть одно любопытное его собственное свидетельство. В так называемых "Заметках, не вошедших в свод" князь Сергей Петрович, рассказывая о подготовке восстания, говорит: "Некоторым лицам было обещано содействие в Государственном совете, если войско, собравшись, будет выведено из города в избежание беспорядков". В Государственном совете только два человека могли обещать содействие в случае мирной гвардейской демонстрации — Сперанский и Мордвинов.
Из членов тайного общества и близких к нему людей со Сперанским прочнее и дольше всех был связан Батеньков. Мы знаем, что он неоднократно пытался говорить со "своим стариком" о возможных переменах, но, по утверждению Батенькова, Сперанский в первые дни междуцарствия — после присяги Константину — оправдывал свою пассивность отсутствием соратников, а затем стал довольно резко обрывать разговоры на эту тему. Этому можно поверить, и это можно объяснить именно близостью Батенькова к Сперанскому. Холодный и умный Сперанский не считал нужным вести разговоры на столь опасную тему с человеком, за которым — он был в этом уверен — не стоит никакой серьезной силы. И совсем другое дело — гвардии полковник князь Трубецкой, с его внушительными родственниками и дружескими связями. Вряд ли Трубецкой — даже если сведения Николая и Бенкендорфа были верными и вышеупомянутая беседа имела место — посвящал Сперанского в подробности заговора. Судя по его собственным словам, лицу, говорившему от имени Государственного совета, представлен был самый мягкий вариант плана — "безмятежный" переворот, переговоры с опорой на мнение гвардии. На это Сперанский в принципе мог согласиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: