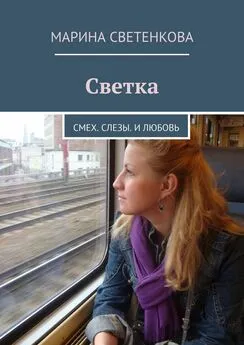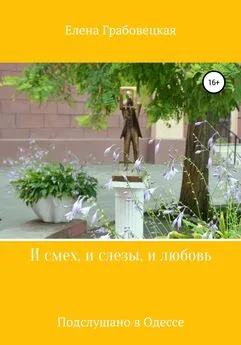Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории
- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:Москва – Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-227-05378-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание
Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.
Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.
Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.
И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как все
В 1911 году в статье «Вместо апологии» основатель и идеолог сионизма, писатель, поэт, публицист, журналист и переводчик Владимир Жаботинский писал: «Мы народ, как все народы; не имеем никакого притязания быть лучше. В качестве одного из главных условий равноправия евреев мы требуем признания нашего права иметь своих мерзавцев, как их имеют и другие народы». Оставим в стороне специфически конкретный словарный спектр значений слова «мерзавец», которые характеризуют «подлого, мерзкого человека, негодяя», и поговорим просто о евреях с сомнительной, неоднозначной биографией, бросающей некоторую тревожную тень на всю нацию. Тем более что за тысячи лет изощренного антисемитизма евреи привыкли к тому, что если Иванов украл, то Иванов – вор, а если Рабинович украл – то все евреи воры.
В 1846 году родилась известная по прозвищу «Сонька – Золотая Ручка» знаменитая варшавско-одесско-петербургская воровка Софья Блювштейн, она же Рубинштейн, она же Школьник, она же Бреннер, а в девичестве – Шейндли Сура Лейбовна Соломоник. В полицейских картотеках большинства крупных европейских городов она известна также по фамилии одного из своих мужей как Софья Сан Данато. Если верить фольклору, о месте ее рождения до сих пор спорят два города: Варшава и Одесса. Петербург был одним из мест приложения ее воровского таланта. Сонмы легенд вокруг ее имени в основном сводятся к тому, что она была иностранной шпионкой, жила в турецком гареме и основала школу преступников в Лондоне. Сонька и в самом деле в Европе считалась главой русских уголовников, благодаря чему газеты того времени приписывали ей все самые знаменитые ограбления, хотя, если следовать официальной статистике, большинство из них произошли в годы, когда Сонька отбывала ссылку в Сибири.
Была лихая Сонька, ручка золотая,
Но судьба-злодейка снова вбила клин.
Брошенная всеми, такая молодая,
Везли ее этапами на остров Сахалин.
По легендам, Сонька дважды бежала с каторги, будто бы только затем, чтобы повидать своих малолетних детей, которых у нее, по одним сведениям было двое, по другим – четверо. Сонька умерла на Сахалине, где отбывала свой последний срок. Там же будто бы и похоронена. Однако в Москве живет легенда о том, что могила Соньки находится на московском Ваганьковском кладбище. Могилу украшает привезенный из Италии памятник – женская беломраморная фигура под огромными черными пальмами. На могиле всегда живые цветы и россыпи монет. Пьедестал памятника покрыт надписями: «Соня, научи жить», «Солнцевская братва тебя не забудет», «Мать, дай счастья жигану», «Соня, помоги», «Соня, научи». Памятник будто бы заказан на деньги одесских, неаполитанских, лондонских, питерских или прочих мошенников.
Имя Соньки Золотой Ручки приобрело такую популярность в преступном мире, что превратилось в метафору удачливости, везения. Так, еще до революции одну везучую, или, на воровском жаргоне, фартовую, питерскую воровку, промышлявшую в меховых лавках Гостиного двора, называли: «Сонька Меховая Ручка». А в Одессе «Бронзовой Рукой» называли ее сына Мордуха, такого же афериста, как и мать.
В 1920-х годах головокружительные успехи массовой коллективизации сельского хозяйства, достигнутые Советским союзом, подвигли Сталина на внедрение таких же принципов коллективной организации труда в творческих профессиях. Прекращалась деятельность разрозненных неофициальных и полуофициальных художественных и литературных групп, кружков и объединений, а всех свободных художников, композиторов, писателей приглашали «добровольно» вступить в творческие союзы. Они должны были подчиняться единому уставу, общей дисциплине, одному начальнику и нести коллективную ответственность за все, что происходит в их среде. Так было легче руководить и проще контролировать. Взамен им были обещаны социальные привилегии и забота партии и правительства о творческом благополучии. Издание книг, творческие командировки, дома отдыха, дачи, премии, продовольственные наборы и прочие блага, включая письменные принадлежности, нотную бумагу, холсты и краски, преимущественно предоставлялись только членам союза.
Одним из таких объединений стал созданный в 1934 году в Москве Союз советских писателей с отделениями во всех крупных городах и столицах союзных республик. В распоряжение Ленинградского отделения был отдан особняк графа Шереметева на бывшей Шпалерной, а в то время улице Воинова, который вскоре назвали Домом писателей имени В. В. Маяковского. Гипсовый бюст пролетарского поэта встречал посетителей в вестибюле. Говорят, ему не однажды отламывали голову, но каждый раз ее вновь водружали на могучие плечи трибуна революции.
В кулуарах Дома писателей любили рассказывать легенду о бывшей хозяйке особняка, выжившей из ума старухе Шереметевой. Будто бы она, большая любительница бездомных кошек, умирая, завещала особняк своей последней питомице, которая долгие годы встречала посетителей дома писателей с гордым достоинством хозяйки. Среди писателей эту местную мурлыкающую достопримечательность прозвали Графинюшкой и чуть ли не целовали ей лапку.
Нравственная атмосфера среди писателей была душной. Творческая критика на заседаниях секций в основном сводились к проработкам, а по сути к травле писателей. Доставалось всем, но особенно неординарным, талантливым и одаренным. Блестящих писателей-фантастов братьев Аркадия и Бориса Стругацких с легкой руки известного острослова Михаила Светлова даже прозвали Братьями Ругацкими, так часто под видом дружеских обсуждений произведений их унижали и втаптывали в грязь. Поводом для проработок могли послужить самые невинные строчки, показавшиеся бдительным идеологическим стражам излишне ассоциативными, а потому предосудительными. Сохранился анекдот о том, как это происходило. Однажды на заседании секции поэзии подвергли критике даровитого поэта Геннадия Григорьева за то, что он в одном из своих стихотворений позволил себе сказать: «Пусть Саша гуляет вдоль Мойки, // Мы Сашу с собой не берем». «Разве можно так о Пушкине», – с обидой за «наше все» возмутился председатель секции Семен Ботвинник. «Нет, нет, – возразил с места Александр Семенович Кушнер, которого недоброжелатели называли Скушнером – это не про Пушкина, это про меня!» Рассказывают, будто Геннадий Григорьев после этого приходил на собрания союза в противогазе, всем своим видом демонстрируя, что здесь «дурно пахнет».
И действительно, здесь происходили самые позорные события в жизни ленинградского писательского сообщества. Бурно приветствовали бесчеловечные погромные постановления ВКП/б/ 1946 и 1948 годов. Единогласно голосовали за лишение членства в союзе писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, осуждали Бориса Пастернака и Александра Солженицына за их принципиальную позицию по отношению к советской власти. Клеймили Иосифа Бродского, позорно обвиненного в тунеядстве. Подвергали невиданному остракизму писателей, уезжавших за границу на постоянное место жительства, как самостоятельно, по собственной инициативе, так и насильно изгнанных из страны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: