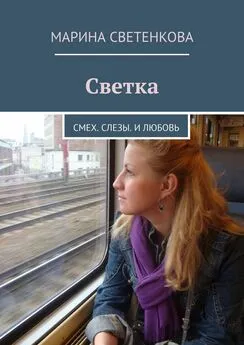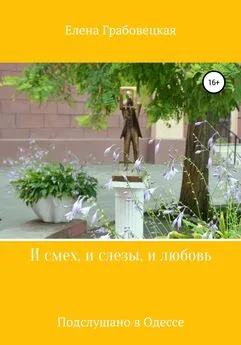Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории
- Название:И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2014
- Город:Москва – Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-227-05378-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наум Синдаловский - И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории краткое содержание
Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.
Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.
Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны. Он сумел привнести в изложение некий доброжелательно-ироничный оттенок, иногда с невольными нотками грусти, так свойственный именно еврейской культуре. Сквозь смех слышатся слезы и наоборот. Форма полностью соответствует содержанию. Наверное, в этом секрет удивительной привлекательности книги.
И смех, и слезы, и любовь… Евреи и Петербург: триста лет общей истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У ленинградской общественности большой счет к союзу советских писателей. Если верить городскому фольклору, между Домом писателей на улице Воинова и «Большим домом» на Литейном проспекте существовал подземный ход. Сотрудники в форме с Литейного и сотрудники в штатском из Дома писателей регулярно пользовались им для решения неотложных вопросов по сохранению в девственной чистоте и неприкосновенности советской идеологической системы.
Иногда цинизм и тех и других достигал наивысшей степени хамства и наглости. Известно, что ленинградские писатели, еще совсем недавно единогласно проголосовавшие за исключение Зощенко из писательского союза, после смерти писателя спохватились и решили оригинальным образом повиниться перед коллегой, устроив ему почетные посмертные проводы в Доме писателей. Это вызвало невиданный переполох в «Большом доме». Как отнестись к всенародным проводам опального писателя, они не знали. На всякий случай к Дому писателей стянули сотни сотрудников в парадной милицейской форме. Оскорбленный таким поведением работников КГБ, директор Дома писателей будто бы позвонил в отделение милиции: «В чем дело, товарищ начальник? Мы не привыкли хоронить писателей с милиционерами в форме». И услышал в ответ: «Так-так. Не привыкли в форме? Ну, в таком случае мы их переоденем в штатское». И переодели. Так, в сопровождении сотрудников в штатском тело писателя было доставлено в Сестрорецк, где он последнее время жил и работал и где на местном погосте был предан земле.
Что можно было ожидать от такого «творческого союза», хорошо известно. Впрочем, сами писатели это понимали.
Живет в Москве литературный дядя,
Я имени его не назову.
Одно скажу: был праздник в Ленинграде,
Когда его перевели в Москву.
Ужель дерьмом бедна столица,
Что Питер должен с ней делиться?
В городском фольклоре Дом писателей не жаловали. Его оскорбительно называли: «Дом макулатуры» и уничижительно: «Писдом». С самим зданием Дома писателей судьба распорядилась по-своему. Осенью 1993 года в особняке Шереметева случился пожар. Пикантность ситуации подчеркивалась тем, что граф Шереметев был основателем пожарного дела в Петербурге. Пожары в его особняке случались и раньше. Первый произошел еще при его жизни. Трижды горел особняк в советское время. В результате последнего пожара выгорело все внутреннее убранство и обрушилась кровля.
Со временем и союз писателей распался, разделившись на две конфликтующие организации. Только совсем недавно была предпринята попытка объединить петербургских литераторов под одной крышей. Что из этого выйдет – сказать трудно, но Дом петербургских писателей находится теперь уже на новом месте в другом районе города.
Недобрую память о себе оставил в петербургском городском фольклоре член Союза писателей, советский литературовед Лев Абрамович Плоткин. Это о его даче на Озерной улице дачного поселка Комарово, которую писатели называли «Дача-на-крови», Анна Андреевна Ахматова, каждый раз проходя мимо, говорила: «О, этот фундамент замешан и на моих капельках крови». Частица «и» в этой фразе вовсе не случайна. Известно отношение к Плоткину и других ленинградских писателей. Так, Михаил Зощенко в разговоре с одним из своих влиятельных приятелей как-то проговорился: «А знаете, каким я вижу вас в своем воображении?.. Я сижу в саду, в летнем ресторанчике, и попиваю пиво, и вдруг вижу: вдалеке клубится пыль, и вы на белом коне подъезжаете и кладете мне на стол отрубленную голову Плоткина».
Надгробие над прахом Плоткина на Комаровском кладбище представляет собой композицию из трех мощных, монументальных, вырубленных из красного гранита, стилизованных книжных томов критических трудов Плоткина. При жизни он был одним из самых яростных «проработчиков» и гонителей Михаила Зощенко и Анны Ахматовой. Знатоки утверждают, что каменные книги – это именно те три тома пасквилей, которые долгие годы отравляли жизнь великой поэтессы. Но справедливость восторжествовала, и каждому дано по заслугам его. Слава Ахматовой преумножилась, а сам Плоткин не выдержал тяжести облыжных каменных книг. И они навеки погребли под собой ныне всеми забытого советского литературного деятеля.
Там же, на Комаровском кладбище, покоится прах другого советского литературоведа – Бориса Соломоновича Мейлаха, известного среди коллег по литературному цеху широким использованием всевозможных цитат из классиков марксизма-ленинизма. Его дача в Комарово называлась «ЦИТАдель Мейлаха» или «Спас-на-цитатах». Известно, что в первую очередь вожделенные дачи получали те, кто активно и беззаветно сотрудничал с советской властью, кто доказывал ей свою верность и преданность, порою ценой лжи и предательства своих же товарищей по перу. Такие дачи были хорошо известны. Их, по аналогии с известным собором на Екатерининском канале, называли: «Спас-на-крови».
Хорошо известен петербургскому фольклору и советский литературовед Лев Васильевич Пумпянский, который до перехода в православие в 1911 году был Лейбом Мееровичем Пумпяном. По рассказам сына Анны Ахматовой и Николая Гумилева Льва, или ГумиЛевушки, как его называли близкие, он трижды подвергался аресту. Первый раз был доставлен в «Кресты» прямо с занятий на историческом факультете Ленинградского университета в 1935 году. Вторично был арестован в 1938 году. Затем – в 1949-м.
Как горько шутил сам Гумилев, первый раз его посадили за себя, второй – за папу, третий – за маму. И действительно, первый арест был случайным. Он оказался в доме одного из знакомых в тот момент, когда туда нагрянули с обыском. Через несколько дней ни в чем не подозреваемого Гумилева отпустили. Об аресте 1938 года Гумилев также рассказывал в частных беседах. На одной из лекций в Ленинградском университете известный советский историк литературы Пумпянский стал издеваться над стихами Николая Степановича Гумилева: «Поэт писал про Абиссинию, а сам не был дальше Алжира. Вот он, пример отечественного Тартарена!» Не выдержав, Лев Гумилев крикнул с места: «Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!» Пумпянский снисходительно парировал: «Кому лучше знать – вам или мне?» И услышал в ответ: «Конечно, мне». Аудитория разразилась хохотом. В отличие от профессора, студенты знали, чьим сыном был их сокурсник. Видимо, этот смех так подействовал на Пумпянского, что он прервал лекцию и побежал жаловаться. Гумилева судили и отправили в лагерь за Полярным кругом. Там он и отсидел свой первый срок – «за папу».
Дважды – в 1945–1948 и 1955–1965 годах – первым секретарем ленинградского отделения Союза писателей избирался поэт Александр Прокофьев. В служебной биографии Александра Прокофьева есть немало позорных страниц. На его счету не одна поломанная творческая судьба. В 1946 году на совещание редакторов литературных журналов в ЦК среди прочих был вызван и Прокофьев. Присутствовал Сталин. Зашел разговор об Ахматовой. «Зачем вытащили эту старуху?» – спросил вождь. И хотя вопрос был адресован не ему, Прокофьев не удержался. «Ее не переделаешь», – с досадой сказал он, будто бы оправдываясь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: