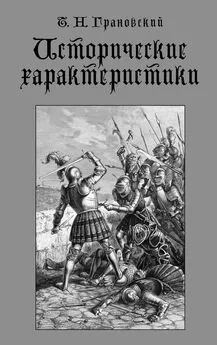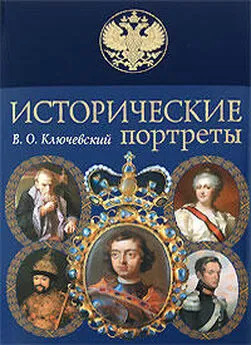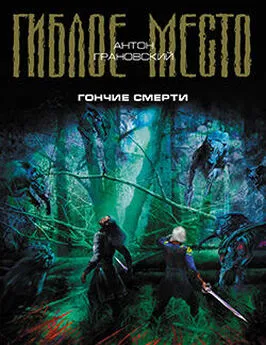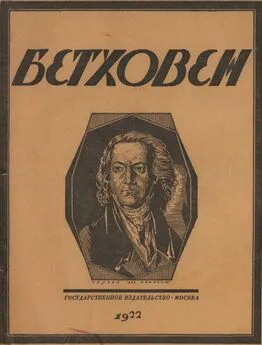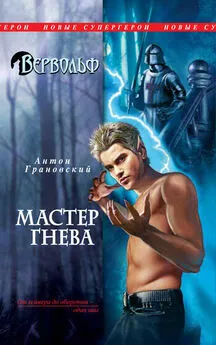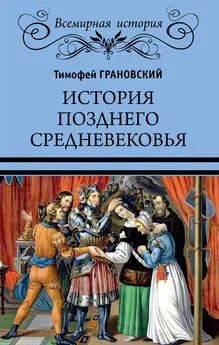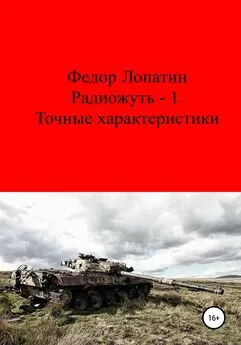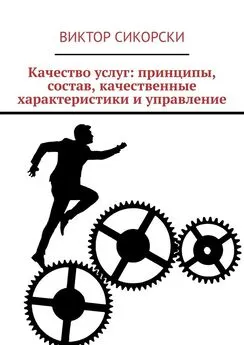Тимофей Грановский - Исторические характеристики
- Название:Исторические характеристики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0532-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тимофей Грановский - Исторические характеристики краткое содержание
В книге историка, профессора Московского университета Т. Н. Грановского (1813–1855) представлены забытые и малоизвестные широкой публике работы по истории Западной Европы в Средние века и Новое время: публичные чтения 1851 г. о Тимуре, Александре Великом, Людовике IX и Фрэнсисе Бэконе, а также статьи 1845–1847 гг., написанные для различных популярных изданий.
Книга адресована историкам, филологам, философам и всем, кто интересуется историей Западной Европы, историей научной и общественно-политической мысли в России XIX в.
Исторические характеристики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я сказал выше о всестороннем разложении греческой жизни. Оно обнаружилось не только в сфере политической, но и в сфере духовной. Аристотель [109]был величайшим, но в то же время последним самостоятельным делателем греческой науки; искусство остановилось еще ранее. К концу IV-го столетия образованность Греции принесла уже и цвет, и плод свой. Она еще красовалась дивным богатством изящных форм и великих идей, но органическое развитие ее кончилось, и дальнейшего роста от нее нельзя было ждать. Ей предстояло перейти к другим народам и принять в себя извне, чрез сближение с новыми, ей чуждыми стихиями, семена нового развития. Из сказанного не следует, однако, заключать, что в разбираемую нами эпоху греческой истории не было вовсе деятельности и потребности в ней. Напротив, потребность деятельности была большая, но ей не было удовлетворения. Поколениям IV-го столетия казался узким театр, на котором отцы их совершали свои бессмертные подвиги. Обмелевшая городская жизнь не представляла более честолюбивому гражданину достаточного простора. Личные цели отдельных граждан превосходили объемом силы и средства ослабевших республик. Следствием этого хода вещей был совершенный упадок местного патриотизма и стремление открыть вне пределов родины поприще, достойное накопившихся и праздных сил. Таким поприщем мог служить только Восток, именно Персия, в которой с конца V столетия постоянно играют важную роль греческие наемники. В рядах этих продажных дружин стояли нередко лучшие люди Афин и Спарты, скучавшие мелкими вопросами и распрями, занимавшими их родину. Они-то принесли с собою из далеких походов, предпринятых вглубь владений великого царя, мысль о возможности завоевать государство, обнимавшее целую треть Азии. Мысль эта перешла от воинов к государственным людям и писателям Греции. По трудности исполнения, по важности результатов такое предприятие достойно было внимания величайших умов и благороднейших сердец. Речь шла не об одной славе или добыче, а о политическом восстановлении Греции, о замене умиравших местных интересов одним общеэллинским. Рассказы наемников и сочинения известных писателей, напр. Исократа [110], равно действовали на общественное мнение и подготовляли его к делу, которое год от году казалось не только более возможным, но даже необходимым. При внутреннем бессилии отдельных частей соединенная Греция располагала огромными средствами для войны наступательной. У мыса Тенара [111], в других таких же сборных местах, тысячи наемников продавали свою отвагу и знание военного дела любому покупщику. Когда Филипп стал во главе Греции и объявил поход против персов [112], он столько же следовал внушениям собственного честолюбия, сколько требованиям общественного мнения. Ему, как видите, досталось на долю быть только исполнителем мысли, давно задуманной и уже громко высказанной. Походы Агезилая [113]в Малой Азии были первою попыткою ее осуществления. Филипп погиб в 336 г. [114], среди приготовлений к великому предприятию. Место его заступил сын его Александр. Трудно было начать царствование при обстоятельствах более неблагоприятных. Вся Греция встрепенулась при одном известии о смерти Филиппа. Демосфен [115]забыл недавнюю утрату дочери, сложил с себя траур и, увенчанный цветами, пришел на площадь возвестить афинянам о смерти македонского царя [116]. Греция взволновалась от одного конца до другого, увлеченная надеждами на возврат невозвратимых форм ее прежней жизни. Филипп погиб вследствие заговора. Неизвестно, кто был зачинщиком заговора. Знаем только, что в нем принимали участие мать Александра, Олимпия [117], македонская аристократия и персидский двор. Дело шло о перемене династии. Силы заговорщиков были велики. Один из главных, Аттал [118], стоял во главе сильного отряда в Малой Азии. На севере и на западе поднялись новые враги – полудикие племена фракийские [119]и иллирийские [120], хотевшие воспользоваться молодостью царя. Во все стороны должен был озираться Александр, против всех опасностей должен был находить средства. Но эти средства он нашел в себе самом. Прежде всего, он устремился на Фракию [121]. Двадцатилетний полководец совершил изумительный поход, прошел через Балканские ущелья, переправился чрез Дунай, разбил гетов [122]на противоположном берегу и заставил фракийцев дать себе в виде заложников такие войска, которые могли ему служить с пользою против персов. На возвратном пути он разбил иллирийцев и взял с них такую же дань людьми, усиливая войско свое разноплеменными, приспособленными к войне всякого рода отрядами.
Но в Греции гроза увеличивалась. Фивы поднялись явно и отбили стоявший в их городе македонский гарнизон; Афины вооружились; жители Пелопонеса шли на помощь Фивам. Никто не хотел верить счастливому окончанию Александрова похода против фракийцев. А между тем Александр прошел непроходимые ущелья Пинда [123]и явился под стенами Фив [124]. Город пал; жители были наказаны за попытку восстания и бесполезное упорство защиты смертью и продажею в рабство. Александр должен был, с одной стороны, уступить требованиям помогавших ему виотийцев [125], которые ненавидели фиванцев; с другой, он хотел строгим примером внушить страх остальным грекам и отбить у них охоту к подобным восстаниям во время предстоявшей войны с персами. Доказательством, что судьба разрушенного города лежала на сердце Александра, может служить его кроткое обращение с теми фиванцами, которые воевали против него в рядах персидских и были взяты в плен. Падение Фив ужаснуло взявшуюся за оружие Грецию и охладило ее вольнолюбивый порыв. Тогда замолк и великий голос Демосфена, единственного противника, который мог быть опасен Александру [126]. Демосфен принадлежал к числу тех трагических, одиноко стоящих в истории личностей, в которых горячая любовь к прошедшему соединяется с ясным сознанием невозможности призвать его снова к бытию. Он хотел удержать, по крайней мере, те части этого прошедшего, в которых еще были признаки жизни, и без устали боролся с Филиппом, в котором не без основания видел самого опасного врага греческой старины. Фивы пали, и Демосфен отказался от безнадежного спора. Он понял, что дело, начатое Филиппом, перешло в более крепкие, непобедимые руки. В самом деле, что могла противопоставить Греция двадцатидвухлетнему вождю, на которого природа и судьба расточили дары свои? Ему дана была даже внешняя красота, так сильно действовавшая на народ, по преимуществу одаренный художественным чувством изящной формы. Женственная прелесть его лица сменялась иногда грозным выражением, напоминавшим гневного Зевса [127]. Кассандр [128]не мог забыть этого выражения много лет после смерти Александровой и, будучи сам царем македонским, содрогался при виде статуй своего великого предшественника. Вам, вероятно, известно, какое воспитание дал сыну Филипп. Аристотель передал своему ученику все богатство идей, выработанных до него греческою наукою, и можно без преувеличения сказать, что ученик стал во многом выше наставника. Греция, с такою неприязнью принявшая весть о вступлении Александра на македонский престол, поддалась вскоре обаянию его личности и привязалась к нему с тою способностью увлечения, которую она сохранила от юных дней своей истории. Могли ли Афины долго враждовать против изящного юноши, в котором воплотились прекрасные стороны греческого ума и характера? Кому, как не ему, было докончить поэтический подвиг, начатый гомерическими героями [129], с которыми он представлял такое поразительное сходство?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: