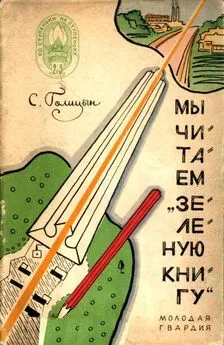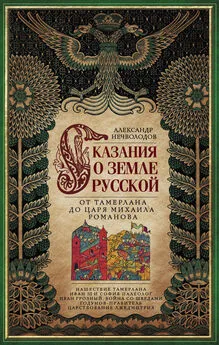Сергей Голицын - Сказания о земле Московской
- Название:Сказания о земле Московской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Детская литература»
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-08-001906-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голицын - Сказания о земле Московской краткое содержание
Повесть о создании единого Московского государства. В книге рассказывается о политических событиях на Руси, о жизни и быте людей того времени.
Сказания о земле Московской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приближаясь к московским заставам, приезжие люди начинали любоваться Кремлем. А москвичи любили свой город крепко и гордились его славой, что растекалась по всей Руси и по многим иноземным царствам…
Из пяти кремлевских ворот по городским улицам расходились дороги в разные стороны. На запад шла дорога на Можайск, Вязьму, Смоленск, и далее в Литву, и еще далее. На северо-запад шла дорога на Тверь и на Новгород. Построились вдоль нее дома, и та улица стала называться Тверской. На север шла дорога на Дмитров, новая улица стала называться Дмитровкой; шла дорога на восток — на Владимир и на Нижний Новгород, от нее ответвлялась дорога на юго-восток, на Рязань и далее, в степи, до самой Орды; еще шла дорога через Москву бродом, называемым Крымским, на юг в Серпухов, снова бродом через Оку и далее, сквозь Дикое поле в Крым.
И еще дорога была по Москве-реке и по ее притокам. Снизу, с Оки, через город Коломну, и сверху по течению, из городов Звенигорода, Можайска, Рузы и Вереи, со многих сел москворецких приплывали в Москву на челноках, на ладьях, на стругах.
И был волок с речки Яузы в верховья реки Клязьмы, там, где ныне стоит город Мытищи, а тогда было древнее село с тем же названием. Мыт — значит «подорожная пошлина».
И ехали или плыли из стольного града Москвы по тем дорогам купцы со своими товарами, с изделиями рук ремесленников, отправлялись по тем дорогам бояре в свои вотчины, и шли пешком богомольцы, а кое-когда пробирались по ночам беглые боярские или купецкие холопы.
И по тем же дорогам в Москву доставляли из боярских усадеб крестьянский оброк, с ближних и дальних деревень гнали скот, везли жито и овощи. Зерно — рожь и ячмень — размалывалось на многих водяных мельницах, стоявших на Неглинной и на Яузе. Принадлежали те мельницы отдельным богатым людям. Даже великокняжеский дядя Владимир Андреевич владел такой мельницей. Бедняки мололи зерно на домашних жерновах.
Купцы из разных городов русских, купцы ордынские, литовские, из других земель доставляли товары на московский торг.
Сколько требовалось разного добра, чтобы прокормить, одеть, обуть, обстроить матушку-Москву! И сколько «людишек» — крестьян, ремесленников — кормило, одевало, обувало, обстраивало белокаменную столицу!
5
 концу XIV века по всей Руси, и прежде всего в Новгороде, но Пскове, в Москве и на земле Московской, различные ремесла поднялись, достигли расцвета небывалого. Только кузнечных насчитывалось до двадцати видов.
концу XIV века по всей Руси, и прежде всего в Новгороде, но Пскове, в Москве и на земле Московской, различные ремесла поднялись, достигли расцвета небывалого. Только кузнечных насчитывалось до двадцати видов.
С каждым годом требовалось на Руси все больше железа, а добывали его, как и прежде, из болотной руды и варили в малых домницах.
Водяные мельницы ставились и в Москве, и в других городах по малым рекам. Для таких мельниц требовались различные железные части.
Множилась торговля по рекам, надо было строить суда больших размеров, значит, для якорей и цепей опять же требовалось много железа. Для кровель на домах знатных людей и на церквах вместо свинцовых и оловянных пластин стали употреблять листовое железо.
И в Москве, и в Новгороде, меньше в других княжествах росло число ратников. Их надо было вооружать. Выходит, опять требовалось много железа. Ковали мечи, копья, сабли, стрелы, щиты, шестоперы, топоры, стремена, конские удила. Побеждали русские воины ордынцев, литовцев, немецких рыцарей и других врагов. И помогало в том русичам лучшее, чем у ордынцев, оружие.
Как и прежде, ковались и многочисленные хозяйственные предметы. Особо искусные кузнецы стали выделывать еще более хитроумные и затейливые замки и капканы. Подобные изделия вывозили в Орду, в Чехию, в Болгарию, в Сербию.
Требовалось много железа для совершенно нового на Руси ремесла — солеварения. А без поваренной соли не мог обходиться ни богач, ни бедняк. Соли требовалось много — и для засолки про запас мяса и рыбы, и для соления капусты, огурцов и грибов, и, разумеется, в пищу.
Раньше соль добывалась из шахт в Галицком княжестве и из морской воды. Теперь, когда на путях к морям и за Карпаты встало преградой Литовское государство, начали бурить глубокие скважины в новгородских, вологодских и костромских землях.
Чтобы добыть соляной раствор, ставили вышку-«соху» на трех ногах, сперва до грунтовых вод копали колодец, далее с помощью блока и ворота на канатах опускали «матицы» — проверченные в толстых полых бревнах обсадных трубы, насаженные одна на другую. Внутрь обсадных труб вставляли железные штанги с наконечниками-коронками. До соляного раствора в мягком грунте доходили за три месяца, в каменистом до трех лет. Рассол выкачивали узкой и длинной бадьей. Соль выпаривали в огромных сковородах-цренах.
Какими надо было быть хитроумными умельцами, сколько труда приходилось тратить, чтобы добывать поваренную соль! А случалось — бурят-бурят, сил и денег затратят много, а соли «не дасть бог», перевози оборудование на другое место, снова начинай добычу…
Ремесленники жили по городам, меньше по селам. Особенно много было ремесленников в Новгороде, во Пскове, в Москве. Во время войны они вооружались и шли в ратный поход защищать родной город, родную землю. Именно они прежде всего защищали Москву от полчищ хана Тохтамыша.
Отдельные ремесленники удачно вели дела и богатели. Так, летопись сообщает, что строитель Кирилл на свои средства поставил во Пскове церковь. До нас дошли закладные грамоты различных обедневших князей и бояр под залог своих деревень и разного имущества бравших взаймы у ремесленников и купцов.

У таких богачей были собственные мастерские с подмастерьями, с учениками. Как жилось ученикам, в том числе малолетним, видно из следующей грамоты о московском скорняке Якушке и его ученике — мальчике Мишке Евфимьеве. Убежавший от своего мастера Мишка показал на следствии:
«Не хотя у него — Якушки — жить для того, что он, Якушка, и жена его беспрестанно его — Мишку — били и увечили, и против записи одежи и обуви на него не клали… А как де он у него жил, и он — Якушка — мастерству его — Мишку — никакому не учил, только его заставливал у себя работать… И жить у него он и ныне не хочет, для того, что бил его напрасно смертным боем».
Грамота эта относится к XVII веку. Но, конечно, такие жестокие хозяева, как Якушка, были и на двести лет раньше.
На землях новгородских и псковских и других, а больше всего на тех, какие тяготели к Москве, — при боярских вотчинах и по монастырям тоже были ремесленники. Они изготавливали для нужд вотчин и для нужд монастырских, а также на продажу в пользу своих господ самые различные изделия. Таким ремесленникам-холопам — а среди них были и малолетние — жилось очень тяжко. В особых помещениях, под присмотром надсмотрщиков, или у себя дома они трудились с утра до вечера; женщины пряли, ткали, вышивали по своим деревням. Самая тяжкая доля доставалась женщинам-холопкам. Десятилетней девочкой она садилась за веретено и за прялку, в двенадцать — за ткацкий стан, в пятнадцать — выходила замуж и, всю жизнь занимаясь изнуряющим однообразным трудом, не знала никаких радостей…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: