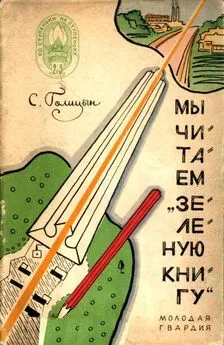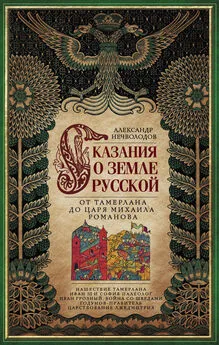Сергей Голицын - Сказания о земле Московской
- Название:Сказания о земле Московской
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Детская литература»
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-08-001906-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Голицын - Сказания о земле Московской краткое содержание
Повесть о создании единого Московского государства. В книге рассказывается о политических событиях на Руси, о жизни и быте людей того времени.
Сказания о земле Московской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Троицкий монастырь славился своей ювелирной мастерской. Некоторые виды тонкого ювелирного мастерства после нашествия Бату-хана вовсе исчезли, другие пришли в упадок и вновь стали развиваться лишь с начала XIV века, сперва в Новгороде, потом при княжеских дворах Твери и Москвы, с конца XIV века в Троицком монастыре.
Привозное золото и серебро превращалось в различные высокохудожественные изделия — чары, кубки, рукояти оружия, предметы церковного обихода, мелочи, вроде украшений на одежду. Все это менялось или продавалось, или князья забирали себе либо отвозили как дань и дары в Орду. А там драгоценный металл безжалостно расплавлялся, чеканились монеты — уже другими правителями, монеты снова превращались в золотые и серебряные вещи, которые берегли их владельцы. И опять вещи расплавлялись, превращались в монеты уже третьими правителями.
Вот почему лишь ничтожная доля художественных сокровищ прошлого — из найденных кладов, из монастырских ризниц, из сундуков отдельных богачей — теперь перешла в наши музеи и там хранится как ценнейшее народное достояние.
А мы поражаемся высокому искусству тех, кто столь тщательно и с большим вкусом создавал эти драгоценные предметы.
Кто же они были — те мастера-москвичи, новгородцы — и кто подвизался в Троицком монастыре?
Были мастера-зернщики. Зернь — это маленькие, размером с гречишное, просяное, даже маковое зернышко, серебряные, иногда золотые шарики. Припаивал мастер крохотными щипчиками до пяти тысяч шариков к какой-либо металлической основе, да припаивал не просто в определенном порядке, а подкладывал под каждое зернышко крохотное колечко из проволоки, тоньше паутинки. Так создавалась чудесная игра света и тени на разных украшениях для девичьих нарядов — на серьгах, на колтах (подвесках), на пряжках; так получались тончайшие, изящные узоры. А ведь очков тогда не носили, не знали, что такое лупа и при столь тщательной обработке серебра скоро теряли зрение.
Были мастера-чеканщики. Сидел умелец с керном и молоточком и тюкал, тюкал, выбивая на серебряных кубках, чарах, мисках подобной же тонкости узоры. И были мастера-сканьщики. Скань — это тоньше человеческого волоса проволочки из драгоценного металла; мастер, свивая или протягивая серебряные ниточки в спиральки, в завитки, припаивал их к какой-то основе и создавал из этих ниточек причудливо-сказочные цветы, листья, другие узоры…
На княжеских пирах Дмитрия Донского и его сына Василия Дмитриевича пили из серебряных чар, из позолоченных кубков, ели из серебряных мисок и блюд. И все эти драгоценности искусные мастера украшали чернью, сканью, рисунок выводили — травчатый, лапчатый, струями, репьями, копытцами, козельчиками.
Одним из лучших сокровищ древнерусского ювелирного мастерства был знаменитый оклад на Евангелии, исполненный неизвестными московскими мастерами в 1392 году. Боярин Дмитрия Донского Федор Андреевич Кошка пожертвовал его Троицкому монастырю. И с тех пор до самой революции то Евангелие хранилось в собрании древних драгоценностей в ризнице монастыря, а теперь находится в Москве, в Библиотеке имени В. И. Ленина.
К медной доске оклада припаяно двадцать девять литых, художественно исполненных фигурок, тут и скань — тончайшая, воздушная паутинка, тут и чеканная чернь — столь же тончайшая, и цветная перегородчатая эмаль, какую знали до нашествия Бату-хана киевские мастера, а следующие поколения позабыли. А в конце XIV века это ремесло вновь перешло к нам из Венеции. Такую драгоценность создавало несколько умельцев, один из них был старшим, особо искусным, обладавшим воистину золотыми руками, острым глазомером и пламенным сердцем, а остальные были его подмастерьями…
6
 упцы немецкие, голландские, шведские, датские не только приезжали торговать в Новгород, они там постоянно жили, общались с местными жителями. И оттого-то идеи западноевропейские проникли в Новгород раньше, чем в другие города русские.
упцы немецкие, голландские, шведские, датские не только приезжали торговать в Новгород, они там постоянно жили, общались с местными жителями. И оттого-то идеи западноевропейские проникли в Новгород раньше, чем в другие города русские.

В Новгороде с XIV века строилось много каменных храмов. Иные из них были почти без украшений, на других вился скупой, вырезанный на камне узор. Они высились по обоим берегам Волхова или в некотором отдалении. Белые, могучие, словно крепости, с узкими, прорубленными окнами, с тяжелыми, окованными железом дверями, они потребны были не только для богослужений, в их низких сводчатых подклетях береглись от пожаров и от «лихих людей» товары и сокровища новгородских бояр и купцов.
Внутри храмы украшались иконами и фресками. Создание фресок требовало большого искусства. По сырой штукатурке, на определенном участке стены, пока еще не высохла известь, живописец должен был быстро и смело нанести углем заранее задуманные очертания фигур, взаимно расположенных согласно распорядку строгих церковных правил-канонов по одному из библейских сюжетов. И тут же, без каких-либо поправок и изменений, не переводя дыхания, он должен был столь же быстро и смело раскрасить эти фигуры и фон сзади них, чтобы краски въелись в сырую известь. Многие фрески дошли до нашего времени совсем свежими, сочными, словно создавали их не в XIV веке, а недавно.
Одним из самых известных мастеров-иконописцев второй половины XIV века — начала XV был «преславный мудрок, зело философ хитр» — Феофан Грек, о ком его друг Епифаний Премудрый оставил воспоминания.

По свидетельству Епифания, Феофан — грек по происхождению — сперва расписывал храмы у себя на родине — в Константинополе, в Халкидоне, затем в Крыму, в Кафе. Новгородские купцы пригласили его в свой город. Там он расписал несколько храмов, сам учился у русских мастеров, и русские ученики, в свою очередь, многое заимствовали у него, потом он работал в Нижнем Новгороде, в Коломне, в Серпухове, затем в Московском Кремле, во вновь построенных Благовещенском и Архангельском соборах и в церкви Лазаря, а также украшал московский терем князя Владимира Андреевича. Как утверждал Епифаний, за тридцать лет Феофан Грек расписал до сорока храмов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: