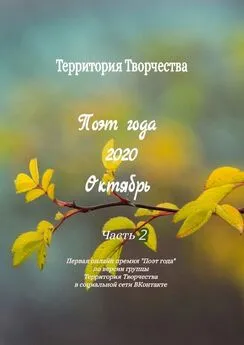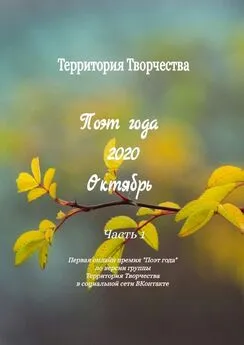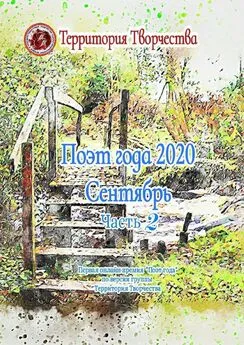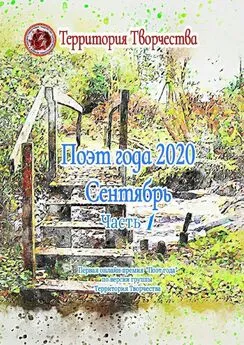Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года
- Название:Двенадцать поэтов 1812 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03700-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года краткое содержание
Имена большинства героев этой книги — Н. И. Гнедича, С. Н. Марина, князя П. И. Шаликова, С. Н. Глинки — практически неизвестны современному читателю, хотя когда-то они были весьма популярными стихотворцами. Мы очень мало знаем о военной службе таких знаменитых поэтов, как В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков… Между тем их творчество, а также участие как в литературной и общественной жизни, так и в боевых действиях — во многом способствовали превращению Отечественной войны 1812 года в одну из самых романтических эпох российской истории, оставшейся в памяти потомков «временем славы и восторга».
Книга Дмитрия Шеварова «Двенадцать поэтов 1812 года» возрождает забытые имена и раскрывает неизвестные страницы известных биографий.
знак информационной продукции 16+
Двенадцать поэтов 1812 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Теперь буду вас покорнейше просить высылать деньги… — продолжает Батюшков письмо отцу, — к выезду моему мне оные черезвычайно нужны.
Еще повергаю себя в ваши объятия и прошу благословения на дальний путь, который предприемлю; оно мне нужнее и денег, и воздуха даже, которым дышать буду. Я скоро возвращусь и надеюсь, что, увидя вас, исцелю все раны моими слезами радости, все раны, нанесенные вам рукою жестокой судьбы. Ах, и в сей час я плачу, родитель мой, и в сей час даже образ твой есть для меня залогом любви твоей и твоих милостей.
Сим кончу я письмо мое; поездку мою кратковременную отменить уже не можно: имя мое конфирмовано Государем. Итак, прошу вас именем сына вашего, утешьтесь и не огорчайтесь краткой поездкой в Польшу.
Бога ради, прошу вас подать мне теперь к отъезду некоторые способы. Пишите ко мне, родитель мой, и дайте мне свое благословение, без коего я жить не могу; я же с своей стороны пред Всевышним пролию реки слез и испрошу вам здравия, спокойствия душевного и всех благ земных. Послушный сын ваш Константин Батюшков» [119] Там же. С. 66–67.
.
Можно представить отцовские чувства после получения такого сумбурного письма. Будь Николай Львович Батюшков человеком крутого нрава, просьба слать деньги и благословение в обмен на «реки слез» он счел бы дерзостью. Но Батюшков-старший отличался сдержанностью и отходчивостью, и если он осерчал, то ненадолго. В искренности сыновьих чувств Николай Львович не сомневался, а стремление сына послужить Отечеству он не мог не разделять. Поэтому думается, что и отеческое благословение, и деньги Батюшков вскоре получил.
Гнедич, хотя и был в пору написания своего письма чуть моложе Батюшкова (письмо предположительно написано в 1801 или 1802 году, значит, Николаю — 17 или 18 лет), подошел к делу куда основательнее. Свои мысли он долго вынашивал, а средства их выражения придирчиво отбирал. Получилось даже не письмо, а публичная речь о выборе призвания. Чувствуется, что убедительность этого письма проверялась декламацией где-нибудь в глухом уголке парка. Голос юного Гнедича — «гибкий и сильный», как он сам его оценивал, — хорошо слышен здесь.
«Вам известно, что я достигаю полноты телесного возраста, — с важностью начинает он письмо отцу Ивану Петровичу, — достигаю той точки жизни, того периода, в который должен я благодарностию платить Отечеству. Благодарность ни в чем ином не может заключаться, как в оказании услуг Отечеству, как общей матери, пекущейся равно о своих детях. Желание вступить в военную службу превратилось в сильнейшую страсть. — Вы, может быть, скажете, что я не окончал наук. Но что воину нужно? Философия ли? Глубокие ли какие науки или математические познания? — Нет: дух силы и бодрости…»
Тут Николай решил честно сказать отцу, что постижение наук более его не увлекает: «Признательно скажу вам, что охота к учению мало-помалу угасает». Тут же сообразив, что фраза эта малодушна и за нее можно получить от отца сугубое порицание, а то и взбучку, Гнедич спешит зачеркнуть ее.
Поразительно, что Николай, сочиняя это письмо, совершенно уверен, что годен к службе в гвардии. Кажется, что он совершенно забыл о том, что его здоровье подорвано перенесенной в детстве оспой. (Надо сказать, что оспа уносила множество детских жизней; к примеру, от этой болезни погиб единственный сын Михаила Илларионовича Кутузова — Николай.)
Но нет, о своих немощах Гнедич не забыл: «Вы может быть думаете, что я слаб здоровьем… Нет, — я чувствую себя способным лучше управлять оружием, нежели пером… Скажу вам, что я рожден для подъятая оружия. Дух бодрости кипит в груди моей так пламенно, что я с веселым духом готов последнюю каплю крови пролить за Отечество».
В этом месте Иван Петрович не мог не улыбнуться. Это была, думается, не насмешливая, а снисходительная, почти умиленная улыбка человека, который понимает в эту минуту, что не зря живет на земле: такой сын не опозорит своего отца.
А Николай рассуждал тем временем: «Образ героя Суворова живо напечатлен в душе моей, я его боготворю. Жаль мне прервать союз с музами, но глас Отечества зовет… Если протечет мне 20 лет, дух бодрости ослабнет, желание уменьшится. До 20 лет может быть я буду не без имени человек…»
С мальчишеской наивностью Николай приводит отцу еще один довод в пользу своего поступления в военную службу: благодаря ей он сможет… путешествовать. В глазах юного Гнедича итальянские и швейцарские походы Суворова — это не столько кровь, страдания и боль, сколько познавательное знакомство с Европой: «Может быть доведется мне быть в отдаленных частях света, увидеть <���жизнь> различных народов, образ их правления, образ их жизни, — и конечно, если судьба мне поблагоприятствует, я возвращусь с большими опытами и познаниями. Вы скажете, что военная служба сопряжена с величайшими трудностями. Правда, она много требует труда и нередко пожертвования сил; но что может быть славнее и приятнее, если не то, что мы преодолеваем трудности и достигаем того, чего желаем?
Внимательными глазами рассматривал я все роды службы. Всякая имеет труды и награждения… Но военная служба, по мнению моему, превосходит все прочии. Славно, очень славно и любезно умереть на ратном поле при открытом небе. Правда, не меньше приятно умереть в своем месте рождения. Но судьба ничья не известна. Нельзя жить в свете и не испытать несчастий. Не всегда светит солнце, не всегда бывает майское утро…
И так, милостивый родитель, отриньте страх. Я уповаю на Бога и прошу его, да даст мне силы к понесению трудов. Позвольте мне вступить в военную службу… Но вы скажете, что нет благодетелей: Бог Всевышний Благотворитель: Он не оставит меня. Прошу со слезами, милостивый родитель, вашего отеческого благословения…» [120] Тиханов П. С. 8–10.
Пройдет время, и Гнедич придет к убеждению, которое выразит на собрании Общества любителей российской словесности: «Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руке воина…» [121] Там же. С. 33.
В 1810 году Гнедич и Батюшков задумали вместе ехать в Америку. Тогда открылась вакансия на место советника при русском посольстве в Вашингтоне. «Я был уже на мази ехать искать фортуны там, где растет перец, в Северную Америку», — вспоминал Гнедич.
Но, во-первых, место было одно. Во-вторых, Гнедич не мог оставить сестру Галю, которая после смерти отца, Ивана Петровича, в 1805 году осталась в одиночестве в сельце Бригадировка близ Полтавы. Жила в такой бедности, что не могла появиться даже в полтавском «свете», и это вынужденное уединение помешало ей выйти замуж. Немыслимо было оставить ее надолго.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: