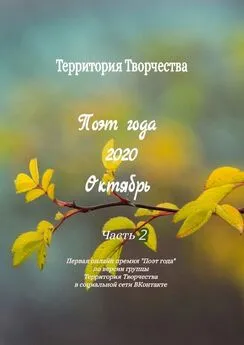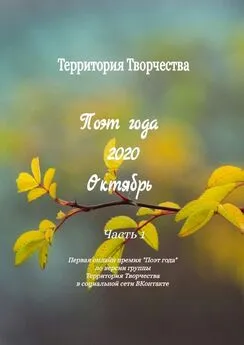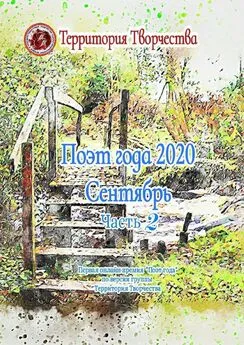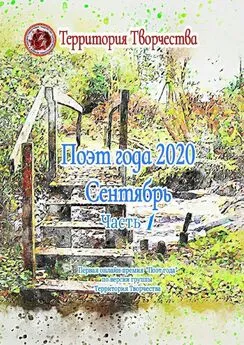Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года
- Название:Двенадцать поэтов 1812 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03700-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года краткое содержание
Имена большинства героев этой книги — Н. И. Гнедича, С. Н. Марина, князя П. И. Шаликова, С. Н. Глинки — практически неизвестны современному читателю, хотя когда-то они были весьма популярными стихотворцами. Мы очень мало знаем о военной службе таких знаменитых поэтов, как В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков… Между тем их творчество, а также участие как в литературной и общественной жизни, так и в боевых действиях — во многом способствовали превращению Отечественной войны 1812 года в одну из самых романтических эпох российской истории, оставшейся в памяти потомков «временем славы и восторга».
Книга Дмитрия Шеварова «Двенадцать поэтов 1812 года» возрождает забытые имена и раскрывает неизвестные страницы известных биографий.
знак информационной продукции 16+
Двенадцать поэтов 1812 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Н. М. Виленкин (Минский), составитель первого полного собрания сочинений Гнедича. 1884
Гомер сделал Гнедича сильной и независимой личностью. Его немногие сохранившиеся публичные выступления производят большое впечатление. И кажется, что когда Пушкин писал «Ты царь: живи один…» — он думал не только о себе, но и видел перед собой пример Гнедича. Когда перевод «Илиады» вышел в свет, Александр Сергеевич написал о Гнедиче: «С чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига».
Пресловутая «чопорность» Гнедича была не напускной важностью, а истинным аристократизмом, за которым стояло глубокое убеждение в своем «царском» литературном призвании. Понимая это, легко понять и то, почему «гордый» Гнедич был так отзывчив, так легко сходился с детьми и с людьми самого простого звания.
Гордец и сноб не мог бы посвятить жизнь чужому произведению, чужому гению. Переводчик — это вообще одно из самых смиренных призваний на свете. Проявляя иноязычный текст, как проявляют негатив, сам он должен отойти в тень. Но как раз из этой тени переводчику открывается многое из того, что для других скрыто.
Гнедич, работая над «Илиадой», не считал зазорным советоваться со всеми знающими людьми. Особенно ему важно было узнать мнение Карамзина. Вот что он писал Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу 4 декабря 1814 года:
«Все еще нуждаюсь в подкрепительных мнениях людей просвещенных. Сер. Сем. Уваров хотел послать еще первый опыт мой к Ник. М. Карамзину; но это тем и кончилось. Сам я, не имея чести быть ему известным, не смею надеяться на его снисходительность или, лучше сказать, на строгость. Ваше превосходительство знакомы с ним. Позвольте мне через Вас узнать мысли этого почтенного человека, которого судом дорожу я. Если Вы почтете лучшим — сделайте одолжение, вручите Николаю Михайловичу от имени моего копию и испросите от него мнение, не об моем, но вообще об экзаметре русском. Как он и что об нем думает? Искренное мнение сего просвещенного писателя было бы мне или гранитной опорой, или, может быть, лекарством от экзаметромании. — Я ожидаю от Вас большого одолжения, а особенно если и Вы еще присоедините свой голос.
Да долго ли тебе пробовать и делать опыты? — скажете Вы мне. Без сомнения, если б я переводил Омера для моего самолюбия, я скорее бы старался кончить его; но я ли его кончу, или кто другой, мне до этого дела нет; лишь бы на русском языке было что-нибудь подобное Омеру…» [144] Овен О. Н. Неизвестные письма Н. И. Гнедича И. М. Муравьеву-Апостолу // Русская литература. 1978. № 2.
Карамзин не только сочувствовал трудам Гнедича, он высоко ценил личность Николая Ивановича, его умение держаться в стороне от литературных партий. Автору «Истории государства Российского» были близки представления Гнедича о миссии писателя в обществе.
Как сохранить свою независимость, в защиту каких ценностей направить свое перо? — вот вопросы, которые волновали Гнедича задолго до того, как ими зададутся крупнейшие писатели XX века. В 1821 году он выступил с речью на собрании Вольного общества любителей российской словесности. Многие собратья по литературе слушали Гнедича невнимательно, заранее зачислив его в архаики и ретрограды. Мудрая, горячая и до сих пор злободневная речь Гнедича и сегодня кажется гласом вопиющего в пустыне:
«Писатель своими мнениями действует на мнение общества; и чем он богаче дарованием, тем последствия неизбежнее. Мнение есть властитель мира. Да будет же перо в руках писателя то, что скипетр в руках царя: тверд, благороден, величествен! Перо пишет, что начертается на сердцах современников и потомства. Им писатель сражается с невежеством наглым, с пороком могущим, и сильных земли призывает из безмолвных гробов на суд потомства. Чтобы владеть с честью пером, должно иметь больше мужества, нежели владеть мечом. — Но если писатель благородное оружие свое преклоняет перед врагами своими, если он унижает его, чтобы ласкать могуществу, или, если прелестию цветов покрывает разврат и пороки, если, вместо огня благотворного, он возжигает в душах разрушительный пожар, и пищу сердец чувствительных превращает в яд: перо его — скипетр, упавший в прах, или оружие убийства! — Чтобы памяти своей не обременить сими грозными упреками, писатель не должен отделять любви к славе своей от любви к благу общему…» [145] Тиханов П. С. 34.
Гнедич категорически не соглашался с теми, кто считал: писатель — слуга читателей, а его произведения — зеркало действительности. Им он с гневом отвечал: «Писатель, говорят, есть выражение времени, печать духа и нравов века своего. Как?.. Он, свободный, должен рабски следовать за веком и, сам увлекаясь пороками его, должен питать их?.. Удались, мысль, недостойная разума!.. В дни безверия и безбожия народного… пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели — вот что нужно в такое время, когда благороднейшими чувствами души жертвуют эгоизму… когда холодный ум сей опустошает сердце, а низость духа подавляет в нем все, что возвышает бытие человека. — В такое время нужнее чрезмерить величие человека, нежели унижать его…» [146] Там же. С. 36–37.
Одна из его заветных и любимых мыслей: от знания античности, классических языков напрямую зависят успехи русской словесности. Забвение античной классики, школярское отношение к древним языкам привели к забвению собственной истории, к бесконечным заимствованиям стиля и слога из французской, а потом и немецкой литературы, к упадку своеобразия и неповторимости русской словесности.
«От времен Рима, — говорил Гнедич еще в 1814 году, — во всех странах Европы и у нас, образование языка тогда только начиналось, когда писатели знакомились с языками древних; а успехи там только быстрее возрастали и словесность народную возвысили до совершенства, где писатели основательно изучали творения древних, признанные образцами превосходного первым законодателем вкуса. <���…> Одним словом, если б поэзия и красноречие древних служили образцами для нашей словесности, хотя с прошлого века: мы не бряцали б великолепных од своих на Готических лирах, не основывали б своей эпопеи на скудном знании поэмы Французской, не делали б нашего театра зрелищем одних любовных приключений; не дали б иностранцам упредить нас глубокими познаниями и изысканиями нашей истории; не позволили б чужеземцам изобразить прежде нас великих наших Государей и описать подвиги наших героев; и наши Омеры, Пиндары, Софоклы и Фукидиды, силою превосходного нашего слова и изящностию их творений, уже восхитили б всех просвещенных народов, и слава языка Российского носилась бы по вселенной, как гром Российского оружия…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: