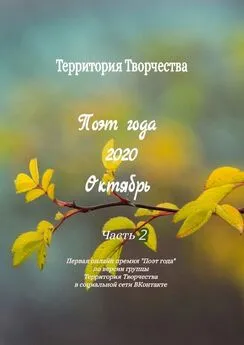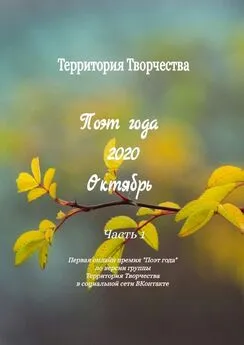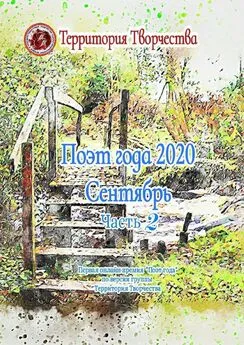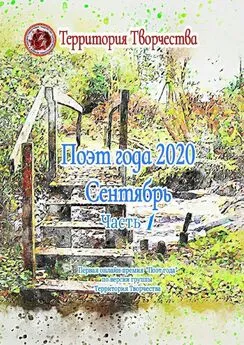Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года
- Название:Двенадцать поэтов 1812 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03700-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года краткое содержание
Имена большинства героев этой книги — Н. И. Гнедича, С. Н. Марина, князя П. И. Шаликова, С. Н. Глинки — практически неизвестны современному читателю, хотя когда-то они были весьма популярными стихотворцами. Мы очень мало знаем о военной службе таких знаменитых поэтов, как В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков… Между тем их творчество, а также участие как в литературной и общественной жизни, так и в боевых действиях — во многом способствовали превращению Отечественной войны 1812 года в одну из самых романтических эпох российской истории, оставшейся в памяти потомков «временем славы и восторга».
Книга Дмитрия Шеварова «Двенадцать поэтов 1812 года» возрождает забытые имена и раскрывает неизвестные страницы известных биографий.
знак информационной продукции 16+
Двенадцать поэтов 1812 года - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гнедич — одно из тех имен в русской литературе, которое привычно упоминается среди поэтов пушкинского времени, но такое упоминание лишь подчеркивает забвение. Единственное, что мы выносим из школьного (да и университетского!) курса литературы, — это то, что Гнедич перевел «на язык родных осин» «Илиаду». Лирика Гнедича, его поэмы и пьесы, его «Записная книжка», полная философских размышлений, его публичные выступления и письма — все это известно лишь узкому кругу специалистов. Собрание сочинений Гнедича не издавалось более ста лет, не говоря уже о полном академическом собрании.
Думается, не случайно Гнедич оставлен нам «про запас». Именно сегодня нам так нужны примеры творческой гармонии, примеры тех людей, для которых вся мировая культура — один большой сад. И что очень важно: Гнедич, сформировавшийся на стыке четырех культур — украинской, русской, античной и европейской, — прекрасно знал, где и что растет в этом саду. Он не разбрасывался, не пробовал все плоды подряд.
Гнедич пытался приучить доверчивых русских людей, прежде чем срывать плоды, смотреть на корни. Именно Гнедич как переводчик и мыслитель дал нашей культуре возможность живо ощутить не только свои близкие, славянские корни, но и корни, идущие от Эллады.
Задолго до Толстого и Достоевского, Солженицына и Шолохова он пришел к убеждению, что главный жанр русской литературы — эпос. Именно эпическое произведение более других соответствует и масштабу событий отечественной истории, и масштабу страны, и духовному складу народа, который чувствует себя народом лишь в свете «великих происшествий» (выражение Гнедича), а в буднях теряется, опускается и мельчает.
Но при этом Гнедич своей судьбой доказал, что эпическая цельность возможна и без войн и сражений, без оглушительных катаклизмов. Эпосом делает жизнь великая цель. И пусть почти все дни Гнедича протекли в тиши Императорской публичной библиотеки, — он оставил нам эпос. Не тот эпос, что навязывается историческими потрясениями, а тем, что создается силами собственной души.
После 1917 года речи Гнедича и его «Записные книжки» издавались лишь фрагментарно. И не только потому, что его эстетические и нравственные воззрения стали считаться глубоко устаревшими. Очевидно, что удобнее было иметь дело с Гнедичем-переводчиком, чем с Гнедичем-мыслителем. За последние сто лет «Записные книжки» Гнедича ни разу не выходили полностью, хотя по объему это всего лишь тридцать страниц.
Одно из самых удачных изданий Гнедича было предпринято тридцать (!) лет назад замечательным историком русской литературы XIX века Виктором Васильевичем Афанасьевым (ныне — монах Лазарь). Сборник избранного Гнедича вышел тогда в издательстве «Советская Россия» [147] Гнедич Н. Стихотворения. Поэмы. М., 1984.
. В него вошли и сорок четыре записи из «Записной книжки» Гнедича (всего их 158). На дворе был еще «атеистический» 1984 год, но Виктору Васильевичу удалось опубликовать, например, такое соображение Гнедича о Библии: «В книге Бытия есть красоты столь необыкновенные, столь великие, что они убегают от всякого изъяснения критики; удивление не находит слов и искусство обращается в ничтожество» [148] Там же. С. 177.
.
И все-таки многие записи Гнедича не вошли тогда в книгу. Что сегодня мешает издателям опубликовать полностью «Записные книжки» Гнедича? Возможно, острая злободневность его мыслей о народе и власти, нравственный максимализм Гнедича?..
Вот некоторые из записей Гнедича, которых не было в изданиях советского времени (цитирую по сборнику П. Тиханова «Николай Иванович Гнедич», изданному к 100-летию со дня рождения поэта в 1884 году).
[149] Там же. С. 47–76.
Должно верить Богу и совести, ибо мы их чувствуем; все доводы будут всегда ниже убеждений сего ощущения.
Для людей не совсем твердых правил и слабой нравственности довольно найти в писателе одну фразу в пользу их поведения; они употребляют ее сначала, чтобы обманывать других, и кончат тем, что будут обманывать самих себя.
Испытание может ослабить сию веру привычки, которую люди, весьма хорошо делают, сохраняя сколько возможно. Но когда человек кончит испытание, и остается более верующим нежели при его начале, тогда религия остается уже на непоколебимом основании, тогда водворяется между ею и философией вечный мир и взаимное служение.
Молитва — есть дыхание души.
Истину, как и детей, нельзя рождать без болезни.
В буре бедствий светильник философии гораздо менее успокаивает, чем маленькая лампада перед образом Святой Девы.
Христианизм [150] Христианство.
извлек из сердца звуки, совершенно неизвестные древним, и дал, так сказать, душе новые струны. Звуки сии силою любви проникают твердь небесную и достигают к Престолу Вечного.
Истинная философия никогда не растлит невинности сердца, ни в самой глубокой старости ума народного; учение Сократа и Иисуса заставят человека иметь добродетели по размышлению, если он не имеет их по побуждению.
Пусть Канты, упрямствуя в сем ложном мнении, что нет ничего, что было выше нашего понятия, иссыхают над метафизикою; они никогда не постигнут ни одной тайны природы; не они положили морю врата, не они рекли ему: до сего дойдеши и не прейдеши, но в тебе сокрушатся волны твоя. Зачем, восклицает Монтан [151] Монтень.
, зачем не пожелает природа когда-нибудь хотя на миг обнажить пред нами недра свои? Боже! Сколько лжи, сколько заблуждений мы увидели бы в нашем бедном знании!
Легкая поверхность философии ведет к заблуждениям и к неведению Божества, но полное учениесближает человека с Богом. Так говорит Бакон [152] Бэкон.
. Как ужасна эта истина! Одни простые сердца и одни великие умы могут веровать в Бога, ибо первые Его чувствуют по внутреннему убеждению, а последние постигают полными познаниями, к которым посредственные умы никогда не достигнут и всегда остаются во мраке, скрывающем от них Бога. Вот почему многие мудрецы думали, что учение философии чрезвычайно пагубно для толпы.
Многие просвещенные умы думали, что науки иссушают сердце, разочаровывают природу, влекут слабые умы к атеизму, и от атеизма к преступлению, но что, напротив, изящные искусства умягчают наши души, исполняют нас верою в Бога и посредством веры побуждают нас к исполнению добродетелей.
В век нравственный самые пороки покрываются личинами. В век безверия они нагло выказывают чело свое. Скупость, невежество, самолюбие, гордость являются в наш век в новом виде. Прежде они были робче, прикрывались учтивством и тонкостию; а теперь они к дурноте порока присоединяют еще дерзость и грубость; прежде они были неприятны и смешны; а теперь они безобразны и ненавистны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: