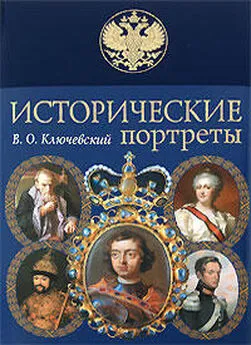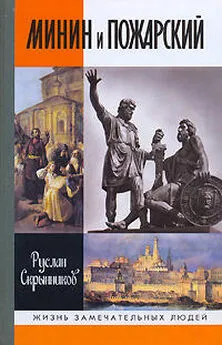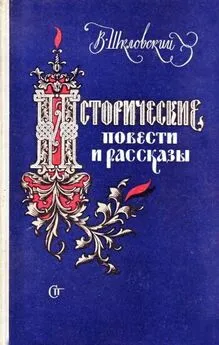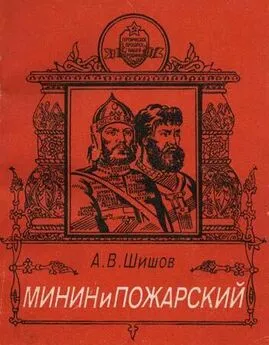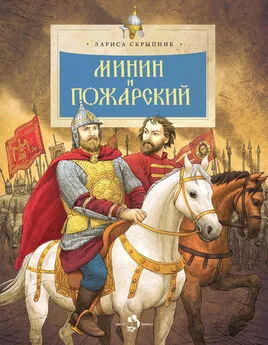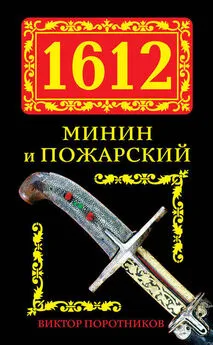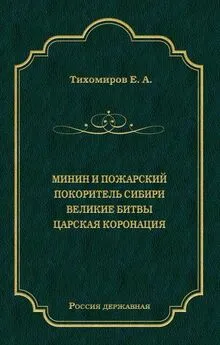Андрей Савельев - 1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты
- Название:1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Книжный мир»2d9799e8-d22f-11e4-a494-0025905a0812
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0590-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Савельев - 1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты краткое содержание
Весь исторический путь России – это борьба государства со смутьянами, которые были движимы самыми разными мотивами: личным стремлением к власти, личной ненавистью к правителям, запросами внешних врагов, вздорными «идеями» и «теориями».
В блестящей плеяде борцов за независимость Русского национального государства Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому принадлежит свое особое место. Их имена навсегда связаны с подвигом, который совершил русский народ во имя освобождения родины в 1612 году.
Трагическое время пережила Россия в начале XVII века. Мор и голод, кровавые междоусобицы, вражеские нашествия разорили страну дотла. Но мудрые головы и храбрые сердца Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, собрав ополчение, спасли Русь от гибели.
Каковы причины возникновения Смуты, затронувшей все без исключения стороны жизни русского общества и вылившиеся в полосу кровавых конфликтов, борьбу за национальную независимость и национальное выживание? И каким образом России удалось выйти из этого глубочайшего государственного кризиса?
Если раньше, Русское чудо наступало в периоды ясности национального самосознания и в результате разумных действий власти, то теперь Русским чудом будет спасение России от Смуты, в которой мы живем уже не первое десятилетие. Преодоление Смуты новых времен – это главная задача живущих в современной России поколений.
1612. Минин и Пожарский. Преодоление смуты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Белинский, как видно, получал наслаждение, оскорбляя лучшие чувства, а простить «шпильку» в свой адрес мог, только переправив острие своего презрения к людям на кого-то другого.
Никакие дружеские связи не меняли склонности Белинского оскорблять и унижать ближнего. «Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. “Я жид по натуре, – писал он мне из Петербурга, – и с филистимлянами за одним столом есть не могу… Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания”».
Самовлюбленность революционной прослойки середины XIX века не позволяла ей любить все человечество или даже только свой народ. Она любила свои идеи, а народ, эти идеи не понимавший, презирала. Причем, не только русский.
Белинский писал Герцену: «Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени; так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга, А смотрят решительными славянофилами. Но увы! в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большею частию носят на голове длинные волоса, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотеческих обычаев времен Кошихина – своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде, то есть татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место».
Ранний Белинский не был злобным клеветником России. Герцен вспоминает:
«– Знаете ли, что с вашей точки зрения, – сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, – вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.
– Без всякого сомнения, – отвечал Белинский и прочел мне “Бородинскую годовщину” Пушкина».
Всем известные вдохновенные строки Пушкина дышали патриотизмом и были вызовом европейским недругам России, грозящим ей войной в связи с польскими событиями.
Болезненность организма и атмосфера ненависти к России, окружавшая его, сделали свое дело. Белинский стал тем, что мы сегодня назвали бы русофобом. Белинский «был в злейшей чахотке, а все еще полон святой энергии и святого негодования, все еще полон своей мучительной, «злой» любви к России» . Такую «любовь» мы сегодня видим повседневно со стороны мучителей Отечества.
Злоба Белинского в словах фантастична, оскорбительна. При обсуждении реакции на вздорное, полное ненависти к России письмо Петра Чаадаева (писанное им вовсе не в юношеской экзальтации, а скорее в престарелом безумии), Герцен описывает такую сцену:
«– Что за обидчивость такая! Палками бьют – не обижаемся, в Сибирь посылают – не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь – не смей говорить; речь – дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, – не обижаются словами?
– В образованных странах, – сказал с неподражаемым самодовольством магистр, – есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит… и прекрасно делают.
Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:
– А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным».
Понятно, почему Белинский был для большевиков целой литературной эпохой. Ненависть к России и готовность к террору против всех, кому Россия дорога, – это и есть наследие «революционных демократов», тип которых большевистские историографы и литературоведы вывели постфактум.
При всей наглости, несдержанности, грубости, Белинский, как отмечает Герцен, был крайне застенчив. Когда у него не было повода для скандала или вокруг не было сочувственной аудитории, он вел себя совсем иначе, чем в моменты, когда позволял себе неистовые вспышки: «К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме». В другой раз, чувствуя неловкость своего положения в чужой компании, Белинский случайно перевернул стол с посудой, стеснявший его, и в поднявшейся суматохе сбежал.
Вот жуткий портрет беса, наказанного за свою ненависть к Богу: «Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью».
Все гневные характеристики лондонской эмиграции, которые потом давал Герцен, в своих типажах напоминают разноликие карикатуры на Белинского – и жалкие, и подлые, и скандальные, и робкие.
Достоевский дал в «Дневнике писателя» убийственную характеристику Белинского, разместив его в своих воспоминаниях среди «старых людей»:
«Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. (…) Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему – начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен). Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстановляет ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: