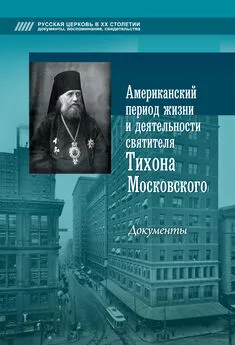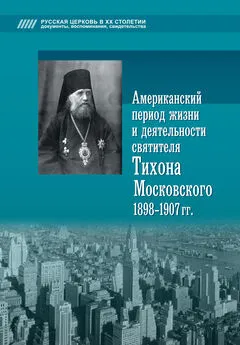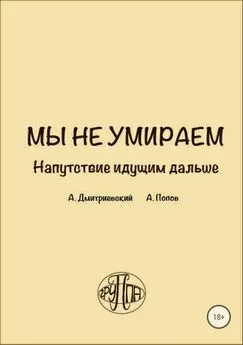Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
- Название:Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-097-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) краткое содержание
У каждого большого дела есть свои основатели, люди, которые кладут в фундамент первый камень. Вряд ли в православном мире есть человек, который не слышал бы о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Отца Макария привел в него Божий Промысел. Во время тяжелой болезни, он был пострижен в схиму, но выздоровел и навсегда остался на Святой Горе. Духовник монастыря о. Иероним прозрел в нем будущего игумена русского монастыря после его восстановления. Так и произошло. Свое современное значение и устройство монастырь приобрел именно под управлением о. Макария. Это позволило ему на долгие годы избавиться от обычных афонских распрей: от борьбы партий, от национальной вражды. И Пантелеимонов монастырь стал одним из главных русских монастырей: выдающаяся издательская деятельность, многочисленная братия, прекрасные храмы – с одной стороны; непрекращающаяся молитва, известная всему миру благолепная служба – с другой. И, наконец, главный плод монашеской жизни – святые подвижники и угодники Божии, скончавшие свои дни и нашедшие последнее упокоение в костнице родной им по духу русской обители.
Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но, несмотря на все это, явились недовольные произведенными выборами – шесть членов карейского протата и шесть монахов обители св. Пантелеймона, причем первые нашли, что уполномоченные от протата якобы «не сообразовались с данными им наставлениями» [199]. Недовольные написали протест в весьма сильных выражениях, причем грозили даже «возобновлением Сицилианской вечерни» [200], и отправили его к Патриарху, который, однако, не придал ему никакого значения, сделав протестантам отеческое замечание. Не мирившиеся с фактом состоявшегося избрания, монахи монастыря св. Пантелеймона продолжали волноваться и протестовать против нового порядка жизни в монастыре. Так, когда 1 сентября русские иноки потребовали от о. Евгения и о. Анастасия ключи от Пантелеимоновского собора, то последние отказались выдать их, а параэкклесиарх собора о. Иоанн на церковной двери наклеил портреты султана, убрав их цветами, и над папертью водрузил турецкий флаг. Турецкий чиновник, бывший при этом, нашел неуместным и не своевременным такое выражение верноподданнических чувств султану, собственноручно снял флаг и сказал при этом: «Подданство и повиновение правительству состоит не в том, чтобы выставлять портреты и выкидывать флаги, но в исполнении его воли». Этот факт наглядным образом показал русским инокам, что огонь вражды греков к ним еще не потух, и посему, чтобы раз навсегда удалить зло из среды своей, они предложили недовольным оставить монастырь и искать себе пристанища в другом месте. Наделенные деньгами и необходимыми предметами к жизни, главные вожаки греческих братий 6 сентября были удалены из обители, которая теперь готовилась к встрече нового игумена.
24 сентября избранный в игумены и утвержденный Патриархом о. Макарий возвратился из Константинополя на Афон. Ликующая братия, торжествовавшая счастливый исход процесса, устроила ему блестящую встречу. 26 сентября, во время литургии, совершенной никейским митрополитом Иоанникием, в присутствии девяти членов протата и секретаря его, о. Макарий получил знаки игуменского достоинства: патерицу или игуменский жезл и архиерейскую мантию с источниками и был возведен на игуменский трон. «Сознаю, – говорил взволнованным голосом новый игумен своей братии, в первый раз вошедший на трон, – что не по силам моим возлагается сей голгофский крест на мою вы ю, но, помня, что сила Божия в немощех совершается, я, грешейший, движимый взаимною любовью и убеждаемый обстоятельствами времени, а вместе и призываемый на сие высокое служение высокопоставленными лицами двух национальностей, решаюсь, призвав в помощь Господа, заступление Царицы неба и земли и предстательство св. великомученика и целителя Пантелеймона, возлагаемое на меня послушание, по желанию и великих адамантов терпения старцев наших Иеронима и Илариона и вашему, я восприял, зная, что это была воля и в Бозе почившего старца нашего о. игумена Герасима» [201].
Члены карейского протата, после поставления в игумена о. Макария, немедленно известили Патриарха и экзархов чрез особые официальные послания, в которых говорилось, что «прежний законный порядок в названной обители вполне восстановлен-» и что «согласно обычаям и порядкам Святой Горы ввели, 26 сего месяца, в день памяти св. Иоанна Богослова в должность настоятеля названной обители архимандрита Макария, недавно выбранного на эту должность большинством пребывающей в обители братии» [202].
В воскресенье, 28 сентября, прочтена была патриаршими экзархами разрешительная молитва, которою прощались все иноки, так или иначе провинившиеся во время происходивших в обители смут, и тут же избраны особые духовники для греческих монахов, а в понедельник 29 сентября экзархи, выполнив возложенные на них поручения, выехали с Афона в Константинополь [203]. В ноябре месяце того же 1875 года Вселенский Патриарх издал особую разрешительную грамоту, которою разрешал все вольные и невольные грехи братии Пантелеимоновско-го монастыря, совершенные ими в период пережитых волнений в нем. Под грамотою имеются подписи всех синодальных архиереев [204].
Так окончился наделавший много шуму на Афоне и далеко за его пределами знаменитый греко-русский Пантелеимоновский процесс, породивший страшную вражду между национальностями русской и греческой, не прекратившуюся окончательно и до настоящего времени, вражду недостойную Святой Горы, как места безмолвия и непрестанной молитвы за весь христианский мир, взирающий с благоговением на это место высших духовных подвигов. Тяжело было положение в это время русских иноков, находившихся под страхом гнетущей их мысли, что не нынче – завтра они очутятся за порогом обители, даже вне милого их душе и сердцу Афона, ради которого они оставили все и порвали связи с дорогой далекой родиной, но несравненно тяжелее было положение тех, которым суждено было стоять на страже русских интересов. Какие ужасные нравственные страдания пережили за это время старцы о. Макарий и о. Иероним – это едвали можно представить себе, хотя бы то и приблизительно. Люди, стоявшие близко к старцам в эту тяжелую пору их жизни, не могут говорить без слез о бессонных ночах, проводимых ими или на молитве или за работою, о разного рода иных лишениях, нравственных страданиях и т. п. Думал ли скромный и неискательный о. Макарий, удалявшийся в безмолвную пустыню от житейских треволнений и дрязг и желавший лишь мира и тишины для постоянного благомыслия, что он будет выброшен из обители в самую пучину человеческих страстей и людской злобы? И нужно было иметь громадную силу воли, всепрощающую христианскую любовь к людям, полную покорность долгу, преданность своей «метании» и сознание правоты самого дела, чтобы незыблемо устоять посреди всех этих дрязг, пошлостей, злостной клеветы и инсинуаций. Здесь-то будущий игумен русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне, как злато в горниле, дочищался, искушался и нравственно укреплялся, чтобы потом всегда победоносно выходить из всякого рода испытаний и трудностей. За эти-то высокие качества ума и сердца великого старца о. Макария [205]Провидение, быть может, и послало ему великого советника и могущественную поддержку в лице Н. П. Игнатьева, русского посла при Оттоманской порте, который оказал незаменимую услугу успеху русского дела на Афоне во время греко-русского Пантелеимоновского процесса. Русские афонские иноки живо хранят в своей благодарной памяти эти услуги своего «ктитора», как титулуют они Н. П. Игнатьева, и долго еще будут поминаться на великом выходе за литургиею дорогие каждому из них имена Николая и Елены со чады , т. е. графа и графини.
Глава VIII
Русские иноки на Афоне во время русско-турецкой войны 1877 и 1878 годов
Интервал:
Закладка: