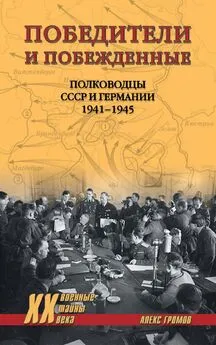Юлия Кантор - Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920-1930-е годы
- Название:Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920-1930-е годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719
- Год:2009
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-388-00624-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Кантор - Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920-1930-е годы краткое содержание
Книга Юлии Кантор посвящена одной из самых «закрытых» тем отечественной истории – секретным контактам СССР и Германии между Первой и Второй мировыми войнами. Почему Советская Россия и Германия пошли на военно-политическое сближение и не разорвали контакты после 1933 года? Как сказалось это сближение на формировании двух тоталитарных режимов? Как связано с ним «дело военных» и репрессии в РККА? Как повлияло сотрудничество на милитаризацию двух государств и с чем они пришли к 1939 году? Книга основана на уникальных, ранее неизвестных документах из Центрального архива ФСБ РФ, Архива внешней политики РФ, Архива внешней политики ФРГ, Российского государственного военного архива, Баварского военного архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Федерального архива Кобленца и других.
Заклятая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920-1930-е годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во время выступления члена Военного совета Северо-Кавказского военного округа Прокофьева состоялся примечательный диалог:
«Сталин: А как красноармейцы относятся к тому, что были командные кадры, им доверяли и вдруг их хлопнули, арестовали? Как они к этому относятся?
Прокофьев: Я докладывал, товарищ Сталин, что в первый период у ряда красноармейцев были такие сомнения, причем они высказывали соображения [о том, как получилось], что такие люди, как Гамарник и Якир, которым партия доверяла на протяжении ряда лет большие посты, оказались предателями народа, предателями партии.
Сталин: Ну да, партия тут прозевала.
Прокофьев: Да, партия, мол, прозевала.
Сталин: Имеются ли тут факты потери авторитета партии, авторитета военного руководства? Скажем так: черт вас разберет, вы сегодня даете такого-то, потом арестовываете его. Бог вас разберет, кому верить? Голоса с мест: Такие разговоры действительно были. И записки такие подавали» [388].
Когда один из ораторов стал заверять Сталина, что авторитет партии, авторитет армии не подорван, Сталин прервал его и заявил: «Немного подорван» [389]. Вождь, вероятно, сам был ошарашен масштабами происходившего, если счел возможным публично сделать такое признание.
Разгрому подверглись и органы советской военной разведки. 21 марта 1937 г. Сталин на совещании в разведуправлении РККА открыто заявил его руководящему составу, что оно якобы «со своим аппаратом попало в руки немцев», и дал установку о роспуске агентуры за рубежом. Даже после того как чистки в армии и на флоте пошли на убыль, Сталин продолжал не доверять ни руководителям разведуправления, ни его работникам. В результате репрессий сильно пострадали центральные и периферийные разведорганы, серьезный урон был нанесен разведывательной сети, и прежде всего – в Германии [390].
Репрессиям подверглись сотни изобретателей и инженеров-конструкторов, работавших в сфере новейших вооружений. Среди них С. П. Королев и А. Н. Туполев. (Поэтому знаменитые «катюши» появились на фронте только в 1943 г., поэтому основной авиационной единицей к началу войны был фанерный У-2, а в финскую кампанию советские солдаты были вынуждены использовать винтовки времен Первой мировой.)
На Лубянке Туполев не выдержал «особых мер воздействия» и дал показания на себя и своих коллег, что и явилось доказательством его вины. Через пять дней непрерывных допросов 26 октября 1937 г. Туполев подписал подготовленное на пишущей машинке заявление на имя наркома внутренних дел Ежова:
«Желая чистосердечно раскаяться в совершенных мною перед Советской властью преступлениях, сообщаю: я был антисоветски настроенным человеком с первых же дней Октябрьской революции, которую я встретил враждебно. Сперва вокруг Жуковского, а затем вокруг меня группировались антисоветски настроенные лица, работавшие со мной в деле опытного самолетостроения ЦАГИ… Я направлял работу опытного самолетостроения ЦАГИ на конструирование и постройку особо больших самолетов с тем, чтобы задержать развитие наиболее нужных самолетов нормальных размеров и типов… Вооружение на самолетах мною устанавливалось вредительски… Практические работы по вредительскому проектированию самолетов проводились под моим личным указанием и руководством» [391].
Туполев был осужден по 58-й статье. Ему повезло – он избежал высшей меры наказания. К расстрелу были приговорены директор завода № 24 Наркомата авиапромышленности Марьямов И. Э., начальник Главного управления авиационной промышленности – директор завода № 26 Королев Г. H., заместитель начальника планово-технического отдела завода № 156 Наркомата оборонной промышленности Инюшин К. А., директор ЦАГИ Харламов H. М. и другие. Туполев и многие другие избежавшие расстрела были отправлены на работу в «шарашки» – специальные конструкторские бюро закрытого типа [392].
Репрессии шли и по национальному признаку. В конце декабря 1937 г. по указанию Ворошилова из округов были затребованы списки на всех немцев, латышей, поляков, литовцев, эстонцев, финнов и лиц других «несоветских» национальностей. Кроме того, Ворошилов рекомендовал выявить всех родившихся, проживавших или имеющих родственников в Германии, Польше и других иностранных государствах, и наличие связи с ними [393]. Списки были, естественно, получены, и все эти командиры вне зависимости от их заслуг, партийности, участия в Гражданской войне были уволены из РККА в запас. А списки уволенных подлежали направлению в НКВД.
Катастрофичность происходящего, как свидетельствуют документы, была очевидна даже многим членам сталинского Военного совета. И они вынуждены были обсуждать сложившееся положение дел. Среди обсуждавших – и члены Специального военного присутствия, участвовавшие с суде над первыми фигурантами «Дела военных». Многим из них вскоре предстояло самим стать «врагами народа» и быть расстрелянными. Об их растерянности и очередном витке поиска виновных свидетельствует стенограмма заседания Военного совета:
«Дыбенко (Ленинградский]ВО): частью дивизий командуют сейчас бывшие майоры, на танковых бригадах сидят бывшие капитаны. Куйбышев (Закавказский]ВО): У нас округ обескровлен очень сильно. Ворошилов: Не больше, чем у других.
Куйбышев: А вот я Вам приведу факты. На сегодня у нас тремя дивизиями командуют капитаны. Но дело не в звании, а дело в том, товарищ народный комиссар, что скажем, Армянской дивизией командует капитан, который до этого не командовал не только полком, но и батальоном, он командовал только батареей.
Ворошилов: Зачем же вы его поставили?
Куйбышев: Почему мы его назначили? Я заверяю, товарищ народный комиссар, что лучшего мы не нашли. У нас командует Азербайджанской дивизией майор. Он до этого не командовал ни полком, ни батальоном и в течение шести лет являлся преподавателем училища…
Буденный: За год можно подучить» [394].
Дыбенко расстреляли несколько месяцев спустя.
В докладе Управления по командно-начальствующему составу РККА «О состоянии кадров и задачах по подготовке кадров», направленном 20 ноября 1937 г. Ворошилову, обращается внимание на «огромное количество незаполненных вакантных должностей в решающих звеньях центрального аппарата, окружного аппарата и соединений» [395]. По состоянию на 15 ноября 1937 г. в центральном аппарате существовал некомплект в количестве 97 вакансий, в окружном аппарате – 115, всего – 519 ответственных руководящих должностей. Составители доклада констатировали, что «поскольку определенная часть лиц в настоящее время по политическим соображениям не может быть оставлена на указанных должностях… то указанное количество надо увеличить до 700 человек» [396]. Упомянут и некомплект по командным факультетам почти всех военных академий. Отстранено от должности или уволено (с последующим применением репрессий вплоть до расстрела – за «контрреволюционную деятельность, за связь с врагами народа и разложение») до 30 % руководящего состава всех военных училищ. Из центрального и окружных аппаратов наркомата обороны к концу 1937 г. было уволено более 23 % сотрудников управления Генштаба, более 10 % сотрудников разведупра, более 19 % – управления боевой подготовки, более 22 % сотрудников инженерного управления, более 39 % – управления военного издательства, треть сотрудников управления военно-учебных заведений [397]. В дальнейшем маховик раскручивался, увеличивая трагическую процентную норму «врагов народа».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: