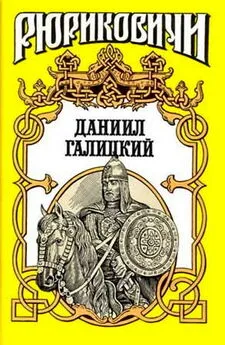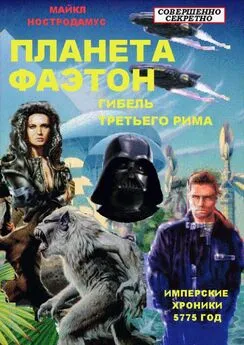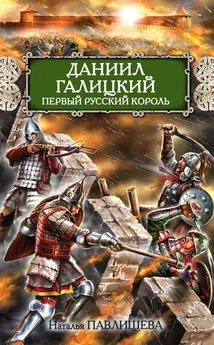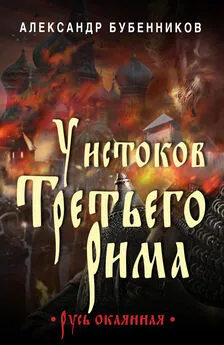Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Название:Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-3168-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима краткое содержание
Книга предлагает принципиально новый взгляд на личность и деяния князя Александра Невского. Автор рассматривает князя одновременно с позиции светской историософии и православной традиции.
Читатель узнает о политической тактике Невского, его осведомленности о мировых исторических процессах того времени и, наконец, о его прозорливости как в вопросах выстраивания отношений с Золотой Ордой и агрессивными западными соседями Руси, так и в вопросах духовного характера, о которых мало пишут не только светские, но и церковные историки.
Особое внимание автор уделяет крупному политическому деятелю и полководцу — князю Даниилу Романовичу и его отцу князю Роману Мстиславичу Галицким. В книге раскрывается ряд важных причин, по которым князь Даниил не стал ключевой фигурой русской истории.
Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Победа на Неве стоила новгродцам и ладожанам жизни двадцати мужей. Так писал летописец. В те времена «муж» — это прежде всего дружинник, часто стоявший во главе небольшого подразделения — «копья». Таким образом, реальные потери русских конечно же превышали два десятка человек. Не стоит забывать и потери «римлян»: «Много ихъ паде; и накладше корабля два вятшихъ мужъ, преже себя пустиша и к морю; а прок их (прочих), ископавши яму, вметаша в ню бещисла; а ини мнози язвъни (ранены) быша; и в ту нощь, не дождавше света понедельника, посрамлении отъидоша». Павших с обеих сторон было достаточно, чтобы признать масштаб битвы как очень серьезный для Средневековья. С такой точкой зрения солидаризируются многие серьезные исследователи.
«Один из погибших княжеских слуг был уже упомянутый Ратмир, но на деле погибших было больше. Доказательством тому служит упоминание о погибших в бою на Неве “княжьих воеводах” в синодике новгородской церкви святых Бориса и Глеба в Плотниках. Учитывая, что двор князя действовал на главном направлении боя, можно предположить, что и потери его были не меньше, чем у новгородцев и ладожан. Иными словами, общее количество погибших в битве русских воинов могло составлять 30–40, а то и 50 человек». Определенные заключения можно сделать и по шведским потерям. «О потерях крестоносцев источники сообщают неопределенно: “множество много их паде”. Однако можно отыскать и другие данные. Из документов явствует, что 15 июля 1240 г. шведская флотилия уменьшилась на 5 или 6 кораблей: 3 были потоплены новгородцами, еще 2 или 3 были использованы для погребения знатных воинов». На одном корабле помещалось до 50 человек, а может быть, и несколько больше. Учитывая, что шведы использовали до 4 кораблей для погребения воинов, можно предположить, что, расставаясь с кораблями, которые были значительной материальной ценностью того периода, шведы отдавали себе отчет, что их некому вести обратно, нет команды и буксировать их не было возможности. Вероятно, и погребение в кораблях диктовалось не только пережитком языческого обряда погребения в ладье, но и желанием не оставлять трофеи победителям. Мы можем осторожно предположить, учитывая количество потерянных кораблей, что шведские потери были не меньше 300 человек. Цифра для того периода и для специфических особенностей ведения боевых действий в Средневековье значительная! Вероятно, такие потери можно объяснить как внезапностью нападения русских, так и тем, что пешим шведам, которые, вероятно, даже не успели экипироваться, пришлось сражаться с конными отрядами новгородцев и княжеской дружины. Ограниченный участок боя не позволял шведам отступить или вообще бежать с поля боя. Большие потери для шведского войска в такой ситуации стали неизбежностью. Необходимо отметить, что соотношение 40–50 погибших русских и около 300 погибших шведов и их союзников (соотношение примерно 1 к 6) не является чем-то фантастичным. В 1200 г. литовцы, разбитые новгородцами в бою у Чернян, потеряли 80 человек, тогда как новгородцы только 15. Баланс потерь — такой же. При этом крайне важно отметить, что литовцы в боевом отношении были не хуже шведских крестоносцев, их отряд был готов к бою, стоял «в клине», и действовал в конном строю. Кроме этого, у литовцев была возможность отступить, чем они и воспользовались — «избыток у бежа».
Здесь мы только начинаем разговор о воинском таланте князя Александра. Князь Александр Ярославич не проиграл ни одного сражения, о чем с гордостью свидетельствует и автор церковного Жития князя! Уже в битве на Неве князь продемонстрировал воинское мастерство и мудрость военачальника, сумевшего незаметно подойти к шведскому лагерю и, уступая шведам в численности, наголову их разгромит у их же лагеря. Для нас двадцатилетний князь — почти мальчик. Это ли не чудо, что в столь раннем возрасте перед нами предстает мудрый военачальник, стратег и храбрый ратоборец в одном лице! Князь Александр в личном поединке ранил в лицо опытного в военном деле предводителя шведов. Вероятно, автор Жития далеко не случайно называет рану на челе предводителя шведов «печатью». Намек автора довольно прозрачен. Печать в древности хозяева ставили на лицо своим рабам. Шведский предводитель не только разбит, но и посрамлен.
Современность как-то стесняется говорить о существовании средневековых законов, негласно регулирующих взаимоотношения между элитами народов. Печать на лице шведского ярла осталась в глазах и современников, и потомков князя, его дружины явным свидетельством не просто Божиего благоволения к русским, но и определенным символом того, что шведский полководец «заклеймен» русским князем, как клеймили в древности рабов. «Да не похваляются посрамить язык словенский», — писал тогда русский летописец по поводу этой славной победы. Мы можем догадываться, что так понимал противостояние с западным соседом и сам Александр. Значит, именно в категориях противостояния ключевых народов данного региона: шведов и словен новгородских — наши предки уже тогда рассматривали битву за Балтику, задолго до времени Петра Великого.
Нельзя еще раз обойти вниманием очень важный эпизод битвы, отраженный Житием князя. И не просто эпизод, но его главного участника. В битве на Неве среди шести главных героев битвы, автор Жития, очевидно, со слов самого Невского, выделяет новгородского боярина Гаврилу Олексича, который погнался на коне за шведским воеводой, вскочив по мосткам прямо на корабль, был сброшен оттуда, выбрался из воды, напал вновь на того же воеводу и убил его посреди полка шведского. И как говорили очевидцы, может, сам Гаврила или его дружинники, но пал в той битве и некий латинский епископ.
Гаврила Олексич не случайно занимает важное место в нашем исследовании. Насколько Александр Невский стал знаковой фигурой, знаменующей собой переход от Киевской Руси к Великой России, настолько Гаврила Олексич символизирует в своем лице и в лице своих многочисленных потомков, верно служивших потомкам князя Александра, нарождение нового слоя русской аристократии, имеющей глубокие исторические корни в древних боярских родах эпохи раздробленности, но ставшей мощным фундаментом для построения централизованного Русского единодержавного государства.
Наш современник академик Янин считает Гаврилу Олексича боярином прусской группировки новгородского боярства, который, без сомнения, вышел на Невскую баталию со своей малой дружиной. Но если проследить родословие Гаврилы, то нам придется признать в нем скорее представителя боярства Славенского конца Великого Новгорода, боярства, имевшего давние связи с Суздальским княжеским домом. Именно на это боярство опирался отец Александра Ярослав Всеволодович. Гаврила Олексич является предком не только поэта А.С. Пушкина и его рода, но и родоначальником пятидесяти двух, в совокупности, дворянских фамилий России. И хотя А.С. Пушкин в «Своей родословной» назвал своим предком Ратшу, служившего Александру Невскому, но затем, видимо, проведя более тщательные исторические изыскания, поэт пришел к справедливому выводу о том, что далекого предка Ратшу и его деяния нужно отнести к середине XII века. В письме к своей супруге он предлагает назвать родившегося сына Гавриилом, в честь предка, который, по его мнению, был псковским воеводой. Здесь мы должны видеть явное знакомство Пушкина с русским летописанием.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: