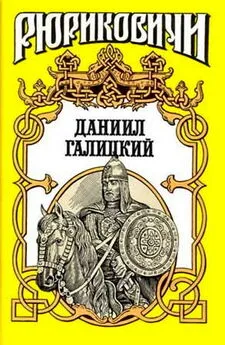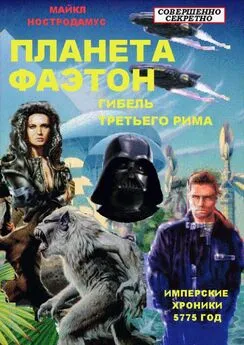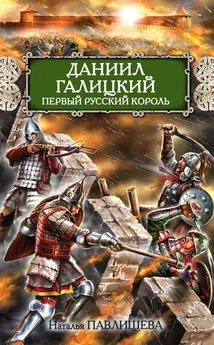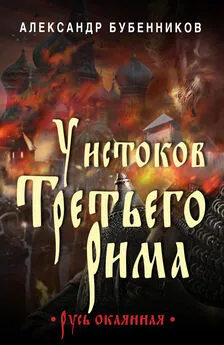Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Название:Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-3168-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима краткое содержание
Книга предлагает принципиально новый взгляд на личность и деяния князя Александра Невского. Автор рассматривает князя одновременно с позиции светской историософии и православной традиции.
Читатель узнает о политической тактике Невского, его осведомленности о мировых исторических процессах того времени и, наконец, о его прозорливости как в вопросах выстраивания отношений с Золотой Ордой и агрессивными западными соседями Руси, так и в вопросах духовного характера, о которых мало пишут не только светские, но и церковные историки.
Особое внимание автор уделяет крупному политическому деятелю и полководцу — князю Даниилу Романовичу и его отцу князю Роману Мстиславичу Галицким. В книге раскрывается ряд важных причин, по которым князь Даниил не стал ключевой фигурой русской истории.
Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, вслед за многими современными исследователями мы можем констатировать, что за время войны Орден потерял около 80% братьев, бывших в Ливонии. Иначе, как разгромом, это назвать нельзя. Каким же образом Александру удалось достичь столь впечатляющего результата в кампании, которая началась без его участия с ряда тяжелейших поражений и утрат важных опорных пунктов, с потерей Пскова?! Вопрос опять упирается в мобилизационные возможности Ордена и Новгорода.
Главной особенностью кампании 1242 г. явилось неожиданное наступление русских, к чему Орден оказался абсолютно неготовым. Магистр Дитрих фон Грюнинген (Гронинген) отсутствовал, его место занимал вице-магистр Андреас фон Вельвен (Фельбен), но и он, по некоторым данным, тоже находился в отъезде. Так или иначе, но все возможные силы выставить не удалось, и нам остается лишь предположить, что в Ледовом побоище могло участвовать до 50 орденских рыцарей и 400–500 оруженосцев (преимущественно, видимо, конных). О количестве вассалов — рыцарей и кнехтов — епископа Дерптского точных сведений нет. Однако известно, что святой отец относился к числу тех владетелей, которые, говоря словами той эпохи, «носили знамя», то есть выводили в поле отряд из не менее чем 20–25 рыцарей. Кроме рыцарей в его составе, как и положено, находились кнехты (по словам Генриха Латвийского, «множество других тевтонов»). Поэтому можно допустить, что на Чудском льду дерптское знамя, неоднократно упомянутое в ливонской Рифмованной хронике, могло насчитывать до 300 воинов. Относительно боевого состава датского знамени можно сказать следующее. К 1241 г. в подвластных Дании областях Северной Эстонии насчитывалось порядка 120 королевских вассалов, из которых немцев было до 100, датчан — 10 и эстов — 8–10 человек. Даже если предположить, что из этого числа на помощь Ордену и епископу пришла только половина, то и в этом случае получается боевой отряд, состоящий из полусотни рыцарей и 300–400 прочих воинов — конных и пеших. Таким образом, можно подсчитать, что собственно немецкие силы в Ледовом побоище составляли 100–300 человек, из которых рыцарей было около 120 (не считая по-рыцарски снаряженных кнехтов). Автор ливонской Рифмованной хроники, говоря об этом войске, сокрушался, что у немцев оказалось «слишком мало народу». Однако ход боевых действий, развернувшихся на западном берегу Чудского озера в марте — начале апреля 1242 г., позволяет усомниться в истинности этих слов. К тому же орденский поэт почему-то забыл сказать, что рядом с немцами в бой шли еще и эсты. К сожалению, тема участия эстов (и прибалтов вообще) в походах крестоносцев никем по-настоящему еще не рассматривалась. В чуди обычно видят подневольную вспомогательную силу, но не стоит забывать, что с русскими у эстов были давние и очень непростые отношения, еще в XI–XII веках сопровождавшиеся вооруженными столкновениями. Считать чудь небоеспособной частью орденского воинства мы не можем. Чудь совершала самостоятельные набеги на русские земли. Это был давний и серьезный враг новгородцев. Что же касается русских дружин, то здесь у нас есть возможность сделать ряд важных заключений касательно их возможной численности.
Совершенно справедливо В. Аракчеев далее указывает на важный факт: «Есть лишь одна деталь, косвенно характеризующая русскую армию со стороны ее численности: участие в битве сразу двух князей. Имя князя Андрея упоминается и в Новгородской первой летописи, но оттуда ясно лишь, что дружина Андрея участвовала в освобождении Пскова. Недвусмысленное упоминание участия князя Андрея в Ледовом побоище содержится в Лаврентьевской летописи: “Великий князь Ярослав посла сына своего Андрея в Новгород Великый, в помочь Олександрови на Немци, и победиша я за Плесковом на озере, и полон мног плениша, и возратися Андрей к отцу своему с честью”».
Для того чтобы дать возможность читателю немного отдохнуть от вычислений количества воинов, принявших участие в битве, позволим себе сделать в определенном смысле мистически окрашенное отступление. Очень трудно игнорировать факты определенного преобразовательного символизма многих событий в истории народов, тем более народов, которые не без основания претендуют на роль субъектов Священной истории человечества, каковым, без сомнения, является русский народ. Что это именно так наши предки хорошо осознавали уже во времена Александра Ярославича, о чем речь у нас пойдет ниже.
Говоря о преобразовательном символизме имен главных участников судьбоносных для Отечества исторических событий, интересно отметить, что участие в битве с немцами на льду Чудского озера князей Александра и Андрея прообразовало участие в Куликовской битве двух иноков Троицкого Сергиева монастыря с теми же именами: Александра Пересвета и Андрея Осляби. Этот удивительный символизм совпадения имен вряд ли случаен для православного сознания, учитывая покровительство христолюбивым воинам святых Александра-воина, в честь которого, скорее всего, был крещен Александр Ярославич, а также и Андрея Стратилата, в честь которого, с огромной долей вероятности, был назван князь Андрей Ярославич.
Вернемся к нашим исчислениям, которые ни в коем случае нельзя считать праздными, учитывая их ключевое значение в определении масштабов такого исторического события, каковым являлась «битва народов» на льду Чудского озера.
«Численность княжеских дружин в походах могла зависеть от самых разных обстоятельств и резко колебаться. Однако, поскольку военная организация княжеского войска находилась в руках тысяцкого, его численность в тенденции должна была приближаться к реальной тысяче воинов. Численность двух княжеских дружин, Александра и Андрея, вряд ли была меньше 2 тыс. человек. Если прибавить сюда некоторое количество новгородских и псковских ополченцев из числа более или менее профессиональных воинов, способных вынести тяготы дальнего похода, совокупная численность русского войска могла достигнуть трех тысяч человек». Определенный перевес сил у русских, который создался искусственно Александром во время сражения, может быть объяснен особенностью построения войска на берегу озера, построения, которое привело к частичному окружению противника. Для характеристики начального этапа сражения имеются только данные о том, что ударный отряд рыцарей был отсечен от массы ополченцев, большая часть которых принадлежала к отряду дерптского епископа, и окружен. Действительно, такой маневр требует определенного превосходства в силах, но говорить о подавляющем численном преимуществе русских эта информация нам права не дает. Но, кроме этого, мы можем предположить и такой вариант развития событий, что, не имея реального численного преимущества, русским воинам удалось связать наступающие массы рыцарей во фронтальном противостоянии у береговой полосы, в которую наступающие рыцари в итоге и уперлись. И в этот момент двумя фланговыми ударами конницы были опрокинуты ополченцы, часть из которых, вероятно, сразу начала беспорядочное отступление. Таким молниеносным маневром и переносом «центра тяжести» битвы с центра на фланги, группируя именно там основные силы, дружины Александра и Андрея могли достигнуть блестящей победы, не имея вовсе численного преимущества. Мы уже неоднократно отмечали, что, учитывая специфику средневекового менталитета, где цена победы коррелировалась с соблюдением определенных «рыцарских» правил, хитрость допускалась лишь при явном преимуществе противника в живой силе. Если обход рыцарей с флангов конницей Александра считать хитростью, то мы должны признать тот факт, что русских войск было меньше массы наступающих немцев и чуди, что в общем-то, повторимся, логично для наступающей стороны. Имея превосходство, тем более значительное, князь не стал бы дожидаться массированного удара немецкой конницы в центральный полк, что по определению вело к серьезным потерям обороняющейся стороны. Вообще, мысль о том, что новгородцы обладали значительным военным мобилизационным потенциалом, мысль ни на чем не основанная. Скорее наоборот, не имея такового, они постоянно были вынуждены обращаться за помощью к суздальским князьям, уповая на мощь их дружин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: