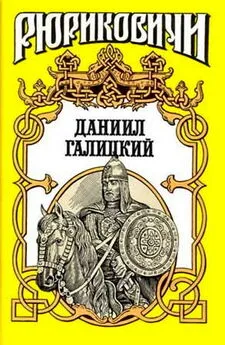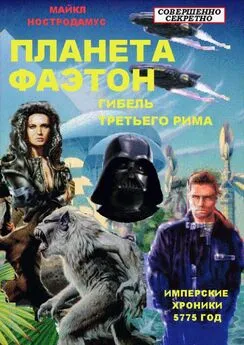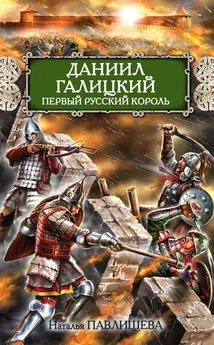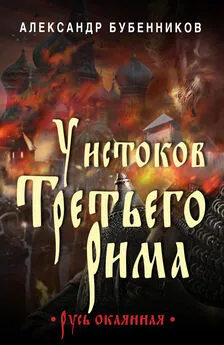Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Название:Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-3168-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Ларионов - Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима краткое содержание
Книга предлагает принципиально новый взгляд на личность и деяния князя Александра Невского. Автор рассматривает князя одновременно с позиции светской историософии и православной традиции.
Читатель узнает о политической тактике Невского, его осведомленности о мировых исторических процессах того времени и, наконец, о его прозорливости как в вопросах выстраивания отношений с Золотой Ордой и агрессивными западными соседями Руси, так и в вопросах духовного характера, о которых мало пишут не только светские, но и церковные историки.
Особое внимание автор уделяет крупному политическому деятелю и полководцу — князю Даниилу Романовичу и его отцу князю Роману Мстиславичу Галицким. В книге раскрывается ряд важных причин, по которым князь Даниил не стал ключевой фигурой русской истории.
Александр Невский и Даниил Галицкий. Рождение Третьего Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разговор должен идти о том, как Церковь, государство и народ определял эти перспективы не только пространственными характеристиками (например, Запад — Восток), но и временными, как уход в глубь времен, к первым векам не только христианской, но и Священной истории, в рамках которой мыслилась собственная национальная историческая жизнь. Аспектами, вовлеченными в освоение национальным сознанием эпохи Александра Невского, могли быть не только метафизические, исторические, географические, хронологические и культурные парадигмы преемственности Руси по отношению к Священной и мировой истории, но и идея translation imperii. Ведь и идея «Третьего Рима» включает в себя осмысление судеб Рима Ветхого. Иначе бы идея преемственности на Руси могла бы свестись к идее «Второго Константинополя». Но сам факт многократного падения этого священного центра вызывал законные опасения древнерусских книжников, как бы мистическая преемственность по отношению только к Царьграду не привела к трагическому повтору его судьбы уже в истории Русского царства.
Вообще «триада Филофея Псковского “Ромейское царство” — “Третий Рим” — “царство нашего государя” призвана была утвердить его древние корни; триада продолжателя Филофея “пучтыня” — “Третий Рим” — “новая великая Русия” обозначала молодость “Третьего Рима”. Использование идеи “Третьего Рима” в XVI веке происходило в основном по первой модели, с утверждением его положительных и удревняющих признаков. Во второй редакции (не позднее 80-х гг. XVI в.) Послания великому князю появляется определение “Святая Русь”, дополняющее и завершающее развитие значения “Третьего Рима”; царь и великий князь объявляется “браздодержателем Святой Руси”».
Известная и замечательная по своей символике «Повесть о белом клобуке» новгородских архиепископов прославляет «Светлую Русию» — «Третий Рим» и говорит о предсказании римского папы Сильвестра об учреждении на Руси патриаршества. Так или иначе, эти поздние сочинения московских книжников полномасштабно привлекают для новых идеологических конструкций архаические пласты древнерусской идеологии. Идея «Святой Руси», появляясь поздно в официальной книжной литературе, тем не менее принадлежит к древнейшему пласту древнерусского сознания, что зафиксировано былинными циклами. Окончательное оформление идеи о святости Руси и сопутствующие ей концептуальные конструкции предшествовали времени татарского нашествия и не могли не наложить особый отпечаток на сознание людей того периода.
Идея «переноса» священного центра христианского мира и его дальнейшее осознание русским народом символически начался с камня на престоле Святой Софии. Так начался отсчет исторического бытия концепции особой исторической миссии Русского государства, осознавшего себя Третьим Римом задолго до того момента, когда эта мировоззренческая установка приобрела законченный вид в посланиях старца псковского Елиазарова монастыря Филофея. «Идея “translation imperii” развита была в XVII веке Арсением Сухановым и Игнатием (Римским-Корсаковым)».
Архимандрит Игнатий вообще вел разговор о переходе «Греческого царства» в русле древнерусской традиции. Важное место здесь было отведено крещению Руси, дарам Мономаха и хождению на Русь апостола Андрея, известного по Начальной русской летописи.
В связи с византийским наследием мы не можем обойти вниманием и вопроса об отношении к сакральной природе царской власти в самой Византии и вопроса о том, что этот взгляд на сакральную природу императорской власти не мог не быть неизвестным на Руси, где проблема взаимоотношения Церкви и государства стояла так же остро, как и в империи ромеев.
И там и тут институты государственности предшествовали Церкви, и, более того, именно государство стало инициатором государственной программы воцерковления подданных Рима и Руси. Наиболее полно сакральный аспект царской власти в христианской империи выразил знаменитый византийский канонист Вальсамон. В частности, он писал: «Что касается императоров, некоторые (толкователи) понимают канон буквально, что им позволено входить во святой алтарь, лишь когда они идут приносить дары Богу, но не тогда, когда они желают войти из простого благочестия. Мое же мнение иное. Поскольку православные императоры поставляют патриархов, призывающих Святую Троицу, и помазаны от Господа, они могут входить безо всякого препятствия, когда пожелают, в святой алтарь… И они (императоры) совершают каждение, благословляют трикирием, как епископы, они учительствуют в чине оглашения, что дозволено лишь епископам града… Поскольку последующие императоры через помазание царства есть помазанники Божий и Христос (что значит Помазанник), Господь наш, кроме всех прочих, воспринял и титул архиерея, то мы по праву можем усвоить императору дары епископства».
Принцип симфонии власти духовной и светской нашел свое самобытное воплощение во властных институтах Новгородской республики.
«В основу широко распространенной в исторической науке характеристики государственного устройства Великого Новгорода как феодальной, боярской республики до сих пор лежит устаревшая идея классового подхода к изучению общества. Необходим пересмотр проблемы с иных методологических позиций — представления самих новгородцев о характере и природе власти, ее связи с христианской идеологией. Древняя Русь не была “светским” государством. Власть в Средневековье могла быть исключительно теократической, сакральной, освященной свыше, а следовательно, само христианское государство могло быть только теократическим».
Для уяснения отношения широких слоев древнерусского народа к фигуре Александра Невского мы должны себе представлять сложившийся в то время особый комплекс идей и представлений, который имел своим истоком языческие воззрения на природу власти на Руси. Эти представления претерпели определенные изменения, будучи преображенными в эпоху христианизации. Во время Александра Ярославича они стали принимать законченную форму.
«Таким образом, с упразднением язычества и принятием христианства у восточных славян была утверждена кардинально новая система государственного устройства: вместо сакрализованного князя-жреца, совмещавшего свою власть с отправлением культовых функций, появились два начала власти от Бога. Свои культовые функции князь передал Церкви, оставшись при этом сакральной фигурой». В Новгороде распределение сакральных функций носило наиболее репрезентативный характер.
«Бог, как истинный правитель Новгорода, рассматривался как гарант границ Новгородского государства. Вся земля Новгородского государства принадлежала Богу, Святой Софии Премудрости Божией, являясь “Землей Всемогущего Бога и Святой Софии”». Такое воззрение на священные, корневые особенности своей государственности были свойственны новгородцам и в более поздний период. Для нас важно понять, как строились взаимоотношения «земли и верховной власти» в Новгороде в тот период, когда Александр Невский своими действиями недвусмысленно заявлял о своей приверженности новаторской для ранней Руси идеи самодержавной власти государя по примеру византийских императоров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: