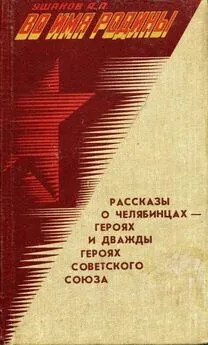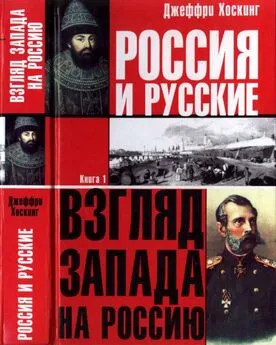Джеффри Хоскинг - История Советского Союза. 1917-1991
- Название:История Советского Союза. 1917-1991
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ВАГРИУС
- Год:1994
- Город:М.
- ISBN:5-7027-0034-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джеффри Хоскинг - История Советского Союза. 1917-1991 краткое содержание
“Культура осознает себя на границе, выходя за собственные пределы” — любил повторять один из самых мудрых методологов гуманитарного знания Михаил Бахтин. Эти слова полностью приложимы и к Истории.
История Государства Советского еще не написана. Ее еще предстоит создать. Однако ясно, что без выхода за пределы своего эгоцентризма мы обречены оставаться в плену стереотипов и миров, прочно живущих в нашем сознании: Вот тут-то и может помочь жесткий взгляд поверх барьеров известного английского историка Джеффри Хоскинга.
Для растущих поколений отечественных историков этот труд, без сомнения, окажется подспорьем на пути к пониманию противоречивой судьбы России, приведшей к рождению загадочной для всего мира советской души.
И если, познакомившись с исследованием Джеффри Хоскинга, новый Карамзин, Ключевский или Соловьев в будущем с большей зоркостью приступят к созданию летописи Советского Союза для школ, то появление в свет этой книги будет оправдано.
Вот почему я с чистой совестью рекомендую книгу Джеффри Хоскинга “История Советского Союза. 1917–1991” для политологов, специалистов в области гуманитарного знания, учителей истории.
А.Г. АСМОЛОВ, член совета по социальной политике при президенте Российской Федерации, вице-президент общества психологов Российской Академии наук, заместитель министра образования Российской ФедерацииИстория Советского Союза. 1917-1991 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Любой завод, предприятие, высшее учебное заведение, транспортное предприятие, колхоз, торговая структура — короче, любое рабочее место — имело свой ранг в этой иерархической системе. Это могла быть должность “всесоюзного значения”, или республиканского, областного, районного или городского. Заработная плата служащих и рабочих менялась в соответствии с этими рангами, а равно и доходы и привилегии начальства. В соответствии с “табелью о рангах” удовлетворялись и потребности предприятий в оборудовании и рабочей силе.
По соответствующим ступенькам было расставлено и все население страны. Осуществлялось это при помощи введенной Сталиным прописки, или вида на жительство. Наивысшим был статус жителей Москвы, где можно получить самую лучшую работу, самое хорошее образование, а пища, товары народного потребления и услуги были относительно легко доступны. К тому же там было возможно общение с иностранцами или теми советскими гражданами, которые привозили товары с Запада. Второе место в иерархии занимали Ленинград и столицы союзных республик, затем, еще ниже, города с населением в 500000 человек и более, и прежде всего те, где находились предприятия военной, космической или другой промышленности, связанной с использованием высоких технологий, т.е. предприятия “всесоюзного значения”. Жители таких городов имели кое-какие блага, доступные москвичам, но в меньших масштабах. Во всех этих городах ограничивался рост населения: милиция прописывала человека только тогда, когда работодатель определенного ранга мог привести убедительные причины того, что нуждается в этом человеке. Прописка существовала в двух формах — временной и постоянной, что создавало дополнительную ступеньку в иерархической структуре. Борьба за превращение первой во вторую могла занять многие годы. “Пятый пункт” в паспорте мог усложнить любой их этих процессов, особенно если там значилось “еврей”. Для того, чтобы обойти все эти препятствия, люди нередко вступали в брак с лицами, у которых прописка была более “высокого” класса: не исключено, что подобные фиктивные браки стали столь же обычны для советского общества, как браки по расчету во Франции времен Бальзака.
Жизнь в маленьких городах и деревнях, где-нибудь в провинции автоматически означала, что человек обладает низшим социальным статусом. Переезд оттуда в Алма-Ату, Киев или Ригу был очень сложен и полностью зависел от благорасположения начальства. Переехать в Москву было практически невозможно. В наихудшем положении находились колхозники. У них даже не было паспортов, потому они не имели права вообще ни на что, кроме краткого пребывания в городе. Единственной возможностью для колхозника потребовать паспорт был момент перед призывом на действительную военную службу — это касалось исключительно мужчин — или если они уезжали для того, чтобы получить специальное или высшее образование. Нет ничего удивительного, что большинство покинувших таким образом деревни молодых людей крепко держались за свои паспорта и впоследствии старались не возвращаться домой, а найти работу в городе.
Только после 1974 года колхозники начали получать паспорта и “второе крепостное право” стало клониться к упадку.
На вершине социальной пирамиды располагались “кадры” партийно-государственного аппарата. Исследователи, занятые изучением советской политики, сейчас начали забывать, что слово это по происхождению чисто военное. Таким же военным был и самый дух партийно-государственных кадров — во всяком случае, иерархическая структура и приказы были необходимы им как воздух. В некотором смысле это свойство даже усилилось после того, как Хрущев освободил их от постоянного страха ареста. Тем не менее нескончаемые хрущевские реорганизации партийно-государственного аппарата до некоторой степени лишили их привычного комфорта и стали досаждать: между 1956 и 1961 гг. Хрущев изменил персональный состав Совета министров, Президиума ЦК партии (Политбюро), секретарей партии областного уровня больше, чем на две трети. Сменилась и половина Центрального комитета.
Преемники Хрущева уничтожили даже этот предмет беспокойства. Лозунгом брежневской политики стало “доверие к кадрам”. Он взял за правило производить минимальное количество перестановок на высшем партийно-государственном уровне. 44% из тех, кто был в 1966 г. членами Центрального комитета, в 1981 г. оставались на своих местах. Конечно, в среднем полноправный член этого ключевого органа находился на своей должности больше двенадцати лет, что превышало максимальный допустимый срок, если придерживаться хрущевской программы ротации партийных работников. По тем же причинам между 1966 и 1982 гг. средний возраст членов Центрального комитета вырос с. пятидесяти шести до шестидесяти трех лет, Совета министров — с пятидесяти девяти до шестидесяти пяти, и Политбюро — с пятидесяти пяти до шестидесяти девяти лет. К концу 1970-х гг. советское руководство стали обычно называть “геронтократией”, и западные журналисты пускались в пространные рассуждения о здоровье советских руководителей, если кто-либо из них временно не появлялся на публике.
Брежневская политика должна была обеспечить людям, которые находились в центре номенклатурной системы, членам Центрального комитета и руководителям его отделов, совершенно новое чувство стабильности и уверенности. Три четверти членов Центрального комитета в 1981 г. занимали высшее положение в партии и государстве: 35% были партийными секретарями республиканского и областного уровня, 9% — работниками отделов Центрального комитета, 31% — министерские чиновники. Выходцев из других частей государственного аппарата было гораздо меньше: военные — 7%, дипломаты — 4%, ученые и деятели культуры — 3%, работники КГБ и профсоюзные деятели — по 2%. Остальные представлены совершенно ничтожным числом. Другие рельефные характеристики персонального состава Центрального комитета представляются даже более важными. Почти три четверти членов ЦК вступили в партию до 1950 г. и, следовательно, первоначальный, а подчас и важнейший, опыт партийной жизни они получили еще при Сталине. 82% из них — по, происхождению рабочие и крестьяне, однако 78% имели высшее образование; это значит, что они сделали блестящую карьеру. Они были удачливыми выдвиженцами, причем после того, как они стали таковыми, этот процесс более или менее сошел на нет. 97% из них — мужчины, что свидетельствует о том, что вопреки всем “эмансипациям” женщины практически не могли пробиться в высшие сферы власти. Славян в составе ЦК было 86%, а русских — 67%, что в процентном отношении значительно превышает представительство других национальностей страны. 55% какое-то время — обычно во время войны, — работали в военных 1 или тесно связанных с военными отраслях промышленности. Итак, “характеристическими” чертами члена Центрального комитета были следующие: преклонный возраст, мужской пол, русский, сделавший успешную карьеру и имеющий широкий опыт государственной и (или) партийной работы, а равно и опыт работы в “военно-промышленном комплексе”.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: